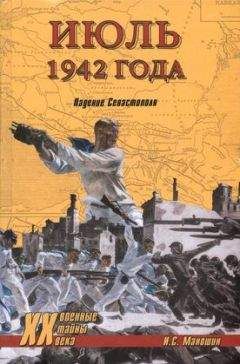Нам приказали подождать. Ждать пришлось недолго. Вскоре полог откинулся, и вынесли тазик с отрезанной стопой. Вышедший следом хирург бросил на Курта взгляд, снял очки и недовольно поморщился. По костистому лицу скатились крупные капли пота. Фартук был заляпан багровыми и бурыми пятнами.
– Бесполезно, солдат.
– Хотя бы морфия, – попросил я его. – Если очнется.
– Если очнется, – распорядился хирург и отошел в сторону, на ходу вытягивая из кармана брюк сигареты и зажигалку.
Мне не хотелось заходить в палатку, откуда доносились крики, стоны и злобная ругань. Тем более что смысла не было. Мы поставили носилки неподалеку от входа, ассистент хирурга, вернувшись, выдал санитару шприц.
Санитар не спешил уходить. Достав по примеру врача из кармана пачку сигарет, он протянул мне три штуки.
– Закуривай.
Я затянулся.
– Откуда будешь? – спросил санитар. Он был старше меня лет на двадцать, возможно и больше.
Я ответил и тоже спросил:
– А ты?
– Брук-на-Муре.
– Где это?
– Штирия.
– Надо же. Ни одной австрийской части, а столько ваших тут встречаю. У нас в подразделении двое были из Австрии. Один тоже санитар.
– Да какой я санитар… Так, вроде чернорабочего. А откуда ваш?
– Из-под Кремса. Я в вашей географии не особенно.
– Нижняя Австрия. А почему «были»?
– Санитара вчера. На кладбище. Ничего не осталось. А другого раньше.
Мы затянулись. Пряный дым приятно щекотнул гортань и наполнил легкие полузабытым блаженством. Внезапно штириец дернул меня за рукав и показал глазами на Цольнера. Тот очнулся. Взгляд, направленный на меня, казался вполне осмысленным. Он издавал мычание, словно что-то хотел сказать. На лбу поблескивала испарина. Мелко подрагивала кисть вытянутой вдоль тела руки. Не зная, что делать, я расстегнул ему боковые карманы куртки (от нагрудных ничего не осталось). Извлек из правого какие-то бумаги. Письма в надорванных конвертах, четыре. Я поднес их Цольнеру прямо к глазам. Курт успокоился. Напряжение спало, веки закрылись вновь. Санитар шевельнул сложенными для крестного знамения пальцами.
Я заглянул в конверты. В двух обнаружились фотографии. Девушек, причем совершенно разных. Одна была блондинкой, другая – шатенкой или брюнеткой. Наш моралист, похоже, отличался разносторонним вкусом, и не только в области изящных искусств. Впрочем, блондинка выглядела не лучшим образом, несмотря на все старания прилежного фотографа. Несколько, я бы сказал, анемично. Впалые щеки, тщательно уложенные, но жидковатые локоны. Взгляд, который ей представлялся загадочным, а мне – растерянным и детским. У поглядевшего на снимок штирийца она интереса не вызвала, в отличие от брюнетки. Та была вне конкуренции. Неглупые, с искоркой глазки давали понять, что их обладательница знает толк в любви и верности. Сочные губки поблескивали влагой и, слегка приоткрывшись, обнажали красивые белые зубы. Крепкие щеки выглядели румяными даже на черно-белом снимке. Бюст прочитывался более чем ясно. Если ее раздеть…
При мысли о голой девчонке меня чуть не стошнило. Я испуганно перевел глаза на носилки с Куртом. Он был совершенно спокоен. Веки, минуту назад опущенные, снова приподнялись. Высохла испарина на лбу, сделались серьезнее и резче черты. Санитар, который как раз рассматривал темноволосую, словно бы смущенно прикрыл ладонью рот. К нам медленно подошел вернувшийся к палатке хирург.
– Вы еще здесь? – спросил он меня, засовывая сигареты обратно в карман. – Хоронить будут вечером, дожидаться не стоит. Данные оставьте в канцелярии. Вам покажут.
– Что? – не сразу понял я. Потом кивнул. Да, конечно, данные… В канцелярии.
Последний раз взглянув на Цольнера, я подумал, что, возможно, так даже лучше. Сунул найденные бумаги в сухарную сумку и встал. Хирург развернулся и скрылся в палатке. Поднявшийся вместе со мной штириец перекрестился опять. Теперь уже явно, четко зафиксировав каждую оконечность воображаемого креста.
– Он лютеранин? То есть я хотел сказать, евангелист?
– Католик.
– Да? Надо же. Наш, стало быть. Ты, значит, тоже католик?
– Нет, я как раз евангелист.
– М-м.
Против воли я внутренне усмехнулся. Цольнер оказался паписту из Штирии ближе, чем потомок гугенотов Дидье. Позабытые многими вещи для кого-то еще сохраняли значение.
– Машины до Бартеньевки будут?
Штириец кивнул, и мы медленно направились к автостоянке. Канцелярия располагалась там же.
* * *
Не знаю, кончится ли это когда-нибудь. Мы лежали в траве и дожидались, пока «Хейнкели» пробомбят участок, отведенный для сегодняшнего наступления. Вегнер курил сигарету за сигаретой, раньше я за ним такой привычки не наблюдал. Страшно не хотелось подниматься. Судьба Цольнера могла постигнуть каждого, будь он католик или евангелист. «Отмучился?» – спросил меня старший лейтенант, когда я вернулся в подразделение. То ли иного он не мог предположить, то ли все было написано у меня на лице. «Хороший был парень», – заметил Главачек. Оценил.
«Хейнкели» неспешно удалились, и мы поползли атаку. Скользили как тени по перепаханной земле, извивались ужом, обменивались знаками. Сильно поврежденный железобетонный бункер иногда огрызался огнем. Часа через два в роте выбыло двенадцать человек, трое навечно. Вегнер яростно ругался.
Мы все-таки сумели подобраться вплотную. Патроны у русских были на исходе, и они не могли удерживать на расстоянии сразу несколько атакующих групп. Потом мы долго ждали огнеметчиков, а когда огнеметчики прибыли, наблюдали за их опасной и нелегкой работой. Первая струя рассыпалась яркими брызгами вокруг одной из амбразур. Ответом было несколько коротких очередей. Мы сразу же открыли огонь из всего наличного оружия. Бетонная стенка утонула в сполохах длинных искр и выбиваемой пулями пыли. Отчетливо было видно, как пулеметные трассы рикошетом уходят в небо. Русские не отвечали. «Прекратить огонь!» – распорядился Вегнер. Сделалось тихо. Относительно, разумеется, поскольку продолжалась пальба на соседних участках. Огнеметчики возились со своими аппаратами, прикидывая, как бы вернее запустить струю прямо вовнутрь бункера. Я наблюдал за ними из воронки. Лежавший рядом Браун внезапно толкнул меня в бок.
– Слышишь? Что это там?
Среди сплошного гула артиллерии и отдаленных бомбовых разрывов тонким невнятным пунктиром прорывались непонятные звуки. Тягучие и протяжные, напоминавшие вой или стон. Они доносились из бункера. Браун был заметно озадачен.
– Молятся, что ли, а?
Скатившийся в воронку старший лейтенант внимательно прислушался. Обернувшись к нам, сказал:
– Поют.
Огнеметчики выпустили струю. Не очень удачно, внутрь амбразуры почти ничего не попало. Звуки из бункера сделались громче. Теперь я тоже различал, что это было пение. Из огнемета вырвалась еще одна струя. Пламя скатилось по стене, окрасив изборожденное воронками пространство бледно-бордовым цветом. Вслед за Вегнером, почти не таясь уже, к нам перебрался и Главачек.
– Что у вас тут?
– Концерт по заявкам, – ответил Браун, перемещаясь из положения «лежа» в положение «сидя».
Старший лейтенант поморщился. На его лице плясали огненные блики, челюсти словно сводило судорогой. И тут я узнал мелодию. Вегнер узнал ее сразу.
Эту музыку я часто слышал в детстве, хотя и не помнил немецких слов. А потом вдруг услышал в Париже, куда, приехав туристом, очутился с отцом на демонстрации французского Народного фронта. Само собой, совершенно случайно. Зрелище было запоминающимся. Солнечный май, тысячи людей, красные знамена, транспаранты, лозунги, совсем иной, чем дома, энтузиазм. Смешавшись с манифестантами, мы прошли вместе с ними до кладбища Пер-Лашез. Услышав, как мы говорим по-немецки, женщина в праздничном платье, сказала сопровождавшим ее подросткам: «Regardez, mes enfants! Ce cont antifascistes allemands!» – и вручила нам по гвоздике из букета, который в охапку несла на груди. Отец, я помню, жутко покраснел. Пять проведенных в Париже дней он после каждого визита в кафе тихо ругал «высокомерных лягушатников» и с удовлетворением отмечал признаки вырождения у представителей кельтической альпийской расы, не говоря уже о заполонивших Лютецию средиземноморцах с их очевидными семитическими чертами. Папаша не был нацистом, но его страшно раздражали официанты, не скрывавшие своего презрения к иностранцам и безошибочно определявшие в нем, то ли по акценту, то ли по чему другому, «боша» – который пытался утаить свою бошескую сущность манерами и знанием языка.
Мне было семнадцать лет, я еще не окончил гимназии. Постоянно повторявшийся французский припев прочно врезался мне в память. И сейчас мне казалось, что в треске лизавшего бетонные стены пламени я слышу именно эти слова.
C'est la lutte finale:
Groupons-nous, et demain,
L'Internationale
Sera le genre humain!
«Это наш последний бой, объединимся – и завтра весь человеческий род станет Интернационалом…» Так они звучали на языке моих далеких предков. Но здесь французскую песню пели по-русски.