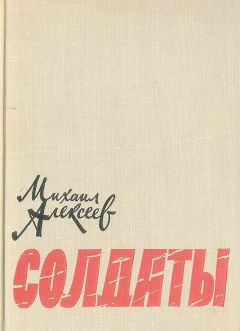— Что?
— Зачем вы запрещаете своим солдатам общение с нами? Зачем ваши офицеры сейчас разогнали своих солдат с площади? Не кажется ли вам, что так друзья не поступают?
— Порядок, господин полковник, порядок требует. Армейская дисциплина, сами знаете…
— Не правится мне такой порядок.
— Вы что же, господин полковник, хотели, чтобы я не подчинялся приказам моего правительства?
— Нет. Но мы хотели бы иметь искреннего союзника. Солдаты ваши — тоже.
— Солдаты должны воевать, с кем им прикажут. И дружить с теми, с кем им повелят, — генерал приподнялся и комом покатился по комнате, обтирая багровую шею платком. — Солдат есть солдат!
— Солдата, о котором вы говорите, такого солдата уже нет, господин генерал. Нет таких и в вашем корпусе. Есть солдаты, которые хотят думать.
— Не полагаете ли вы, господин полковник, что знаете моих солдат лучше, чем я?
— Полагаю, господин генерал. И в этом нет ничего удивительного. Мне, советскому офицеру, легче понять душу простого солдата. Поэтому я утверждаю, что ваши солдаты желают настоящей дружбы с нами, иначе их не заставил бы никто проливать кровь сейчас за наши общие интересы. Разумеется, вы не хотели бы этого, как не желаете того, чтобы румыны и венгры жили в вечном мире и дружбе. Вы сознательно закрываете глаза на тот факт, что ваши офицеры жестоко избивают венгерское население здесь, в Трансильвании.
— Мадьяры — наши исконные враги. Они и для вас враги такие же, как и для ваших румынских союзников…
— Такие же враги, какими еще вчера являлись для нас наши сегодняшние румынские союзники. Именно поэтому мы решительно против вашей междоусобицы. — Демин видел, как от его слов морщится и сжимается этот генерал, против своей воли ставший нашим союзником.
— Я — румын, господин полковник, и превыше всего ставлю национальную честь своего народа, — патетически проговорил Рупеску. — Мадьяры оскорбили эту честь, и моя совесть не позволяет мне быть к ним снисходительным. И я… И я никому не позволю…
— Успокойтесь, пожалуйста. И разрешите мне усомниться в справедливости наших утверждений.
— Как вам угодно, — сухо пробормотал генерал.
За окном, у крыльца, громко разговаривали румынские солдаты из генеральской свиты. Они говорили о русских, говорили без устали, неутомимо. Русские по-прежнему возбуждали в них острый, иногда пугающий и всегда смутно обнадеживающий интерес. Румынам было непопятно, отчего русские не дают им бить мадьяр; непонятным было много из того, что делали советские солдаты. И все же румыны чувствовали, что с приходом советских поиск в их страну одновременно ворвалось что-то новое, возбуждающее, отчего должно произойти какое-то важное изменение, и они догадывались, что это изменение — к лучшему. Повинуясь внутренней, еще не совсем ясной, но сильной воле, они все более проникались уважением к советским бойцам — ко вчерашним своим врагам, о которых им все время говорили только плохое. Так же как когда-то у Георге Бокулея, в душе румынских солдат пробудилась и росла, тревожа мозг и сердце, непопятная сила, которая готова была вырваться наружу потоком сердитых, негодующих слов к тем, кто их так долго обманывал. Солдаты были охвачены чем-то могучим, совершенно незнакомым, еще до конца не осмысленным и не осознанным ими, но уже не столь пугающим, как раньше. Они переживали состояние детей, перед которыми впервые открывался огромный, неведомый, захватывающе манящий и прекрасный мир. И то, что боярин Штенберг был убит рукою какого-то их товарища, что еще утром беспокоило их и пугало, казалось преступным, — теперь представлялось закономерным, неизбежным и даже необходимым, как закономерным, неизбежным и необходимым было все то, что совершалось сейчас на их глазах.
Прислушиваясь к солдатскому гомону за окном, Демин, по-видимому, думал как раз об этом.
— И вам не уничтожить уважения ваших солдат к моей армии, к моей стране, — продолжал полковник, — как бы вы ни старались это сделать. Я должен, как представитель советского командования, заявить вам, господин генерал, что вы и ваше правительство не выполняете условий перемирия. Румынская армия, в том числе и ваш корпус, господин генерал, до сих пор заполнены ставленниками Антонеску, явными и тайными агентами Гитлера. Сторонников Антонеску, офицеров, вы повышаете в должностях, а его противников, друзей румынского народа и Советского Союза, всячески терроризируете. Демократически настроенных офицеров вы увольняете из армии или разжалываете в рядовые…
— Это неправда!
— Нет, это правда. Вот свежий факт. Почему вы сегодня отдали приказ об отстранении от должности командира взвода Лодяну? Не потому ли, что он из рабочей семьи и стоит за дружбу с нами и так же, как мы, ненавидит фашизм?
— В его взводе скрывался и скрывается солдат, убивший ротного офицера — лейтенанта Штенберга. Лодяну отказался помочь следственным органам обнаружить этого негодяя.
— А зачем вы распорядились об увольнении командира роты Мукершану? Он что, тоже был причастен к убийству?
— Мукершану вел вредную пропаганду среди солдат.
— Призыв к дружбе с СССР им считаете вредной пропагандой?
Припертый к стене, Рупеску молчал.
Демин колюче посмотрел на него, сказал:
— У меня к вам больше нет вопросов, господин генерал, — и, не попрощавшись, вышел на улицу. Он быстро направился в штаб своей дивизии.
После занятия города советскими и румынскими войсками Мукершану, еще утром сдавший роту другому офицеру, решил посетить шахтерский поселок, раскинувшийся за смутно маячившими невдалеке многочисленными копрами. В километре от поселка он встретил группу углекопов, сидевших на валунах и о чем-то угрюмо разговаривавших. За плечами шахтеров были приторочены котомки, в руках — посохи.
— Куда это вы собрались? — спросил Мукершану, присаживаясь рядом с шахтерами.
— А вы кто будете? И какое вам до нас дело? — в свою очередь спросил пожилой рабочий, откинув с головы брезентовый капюшон, которым укрывался от мелкого холодного дождя, спустившегося с какой-то приблудной тучки.
— Есть дело, коль спрашиваю.
Шахтеры с ленивым любопытством посмотрели на незнакомца, почуяв в его голосе неподдельную заинтересованность.
— Кто же ты, однако? — переспросил все тот же пожилой углекоп.
— Солдат. Не видите, что ли?
— Видим. Мало ли их тут бродит! Интересуетесь только вот зачем?
— Сам рабочий. Вот и интересуюсь. Все по профессиональной привычке поглядели на руки Мукертану. Удовлетворенные, загудели:
— Не обманываешь, похоже.
— А зачем мне вас обманывать?.. Покидаете, значит, шахты? — Мукершану нахмурился. — Эх вы!..
— Какое, однако, твое дело? — разозлился пожилой шахтер, который, по-видимому, был тут за главного. Мукертану подозревал, что это по его инициативе рабочие собрались в свое странствие.
— А ты зря сердишься, старик. Я плохого вам не сделал. Но только настоящий шахтер свою шахту не оставит.
— Свою?.. А ты погляди на нее! — все более раздражаясь, воскликнул рабочий. — Купаться в ней, в шахте-то? Уж больно вода черна; ты бы сам попробовал.
— Воду можно выкачать.
— Пусть хозяин сам качает. Сумел залить — пусть и откачивает. А мы с голоду не хотим умирать… Да что ты к нам прицепился?.. Откуда ты объявился? Пошли, чего его слушать!..
— Я сказал откуда. А ты зря, старик, торопишься. Батраками, что ль, к помещику? Не советую — плохой это хлеб. Возвращайтесь-ка к себе на шахту и принимайтесь за дело. Так-то оно будет лучше.
— Хозяину капиталы скоплять? Нет уж, хватит.
— Не хозяину, а себе, — спокойно возразил Мукершану и быстро сообщил: — Ваши будут шахты, поняли?
Рабочие недоуменно зашумели:
— Как бы не так!
— Вырвешь у них — руки пооборвут.
— Не пооборвут. Коротки теперь у них руки. — Мукершану приблизился к пожилому рабочему, доверительно заговорил: — Что ты косишься на меня? Где это ты видел, чтобы рабочий обманывал рабочего? Вот возьми, почитай! — и Николае показал шахтеру документ, в котором указывалось, что он, Мукершану, рабочий с завода Решицы, является членом Румынской коммунистической партии. — Ну, что ты скажешь на это, старина?
— Простите за грубые слова, товарищ, — голос старого рабочего стал мягче, взгляд потеплел. — Откуда мы знали?.. Что же, однако, нам делать? С голоду пропадаем. Детишки пухнут.
— Вижу и понимаю. Но покинуть шахты и уйти в деревни — не выход из положения. Стране нужен уголь. Коммунистическая партия не даст помереть вашим детишкам.
— Значит, вы советуете нам вернуться?
— Да, советую.
— Ну что ж. Мы вернемся. Только знаешь, товарищ, недолго мы протянем, если так продолжаться будет…