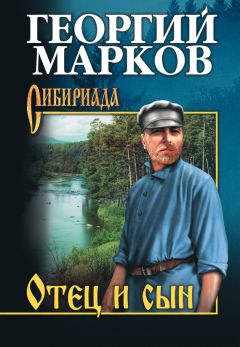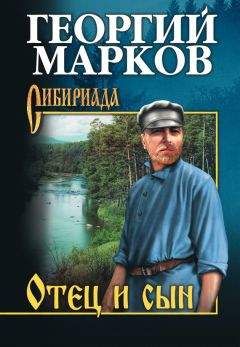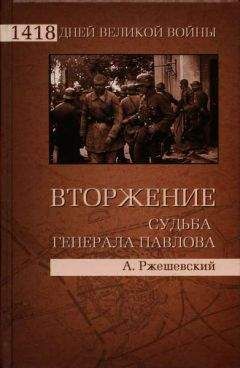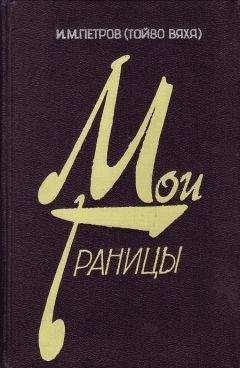Рассказав о всей истории батальона, Тихонов не покинул приехавших, а вместе с ними направился на кухню, куда предварительно он передал приказание о срочном приготовлении обеда для вновь приехавших товарищей.
На кухне Тихонов вызвал к себе повара сержанта Сережкина и, выслушав его рапорт о том, что обед готов и уже второй раз подогревается в бачках, приказал тотчас же кормить людей. Дождавшись, когда обед был принесен на столы, сооруженные из простых толстых досок, прибитых к березовым стойкам, Тихонов пожелал приехавшим товарищам хорошего аппетита и удалился.
Едва Тихонов скрылся, командиры, и средние и младшие, дружно заговорили о комбате. Тихонов провел с ними часа полтора-два — максимум, но и этого времени было достаточно для понимания некоторых важных особенностей стиля его работы. По всему, что говорил и делал комбат, было видно, что он любил во все вникать, до всего доходить, не гнушаясь никакими мелочами. По-видимому, он был человек требовательный, волевой, но и чуткий, внимательный к нуждам людей, находившихся у него в подчинении.
После обеда командиры разошлись по ротам, согласно полученным назначениям, и стали устраиваться на ночевку. Близился вечер, с ветерком, с пыльцой, с той хмурью на осеннем тяжелом небе, которая навевает нерадостные раздумья, заставляя вспоминать то родных, то свою юность, то мирное время, когда можно было устраивать свою жизнь где хочешь и как хочешь.
А утром все приехавшие начали службу, окунулись сразу в водоворот больших и малых дел, которые цеплялись одно за другое и в целом создавали напряженный ритм жизни, пронизывающий весь батальон от командира до последнего бойца.
Старший политрук Буткин поселился в землянке, в которой жил комбат Тихонов и адъютант старший Власов. Ночью он спал плохо, ворочался с боку на бок, несколько раз выходил на улицу выкурить самокрутку из крупной махорки, перемешанной с листовухой. Как все или большинство пожилых людей, Буткин спал мало и ночами, коротая бессонные часы, размышлял о жизни, о людях, о судьбах Родины, которую любил преданно, самозабвенно, любил без всяких пышных слов. Кстати сказать, по отношению к Родине он и произносить-то их стеснялся, так как слова эти казались ему ненужными и порой даже оскорбительными.
И в эту первую ночь, проведенную в батальоне, Буткин, лежа на жестком топчане, застланном свежим сеном, пахнувшим далеким-далеким детством, среди прочих дум немало размышлял о своей новой роли — комиссара батальона, о Тихонове, который сейчас лежал от него в двух шагах, по-богатырски похрапывая, и с которым ему предстояло работать, может быть, год, а может быть, и два, о напряженности положения на восточных границах Советского Союза и о неясности его, Буткина, собственной судьбы, которая в условиях войны могла повернуться самым неожиданным образом и унести его в Берлин, или Порт-Артур, или еще куда-нибудь.
Перед рассветом Буткин забылся, а когда проснулся, в землянке было пусто: Тихонов и Власов уже ушли в подразделение. В маленькое оконце, устроенное почти под самым потолком, падал яркий свет — день, невзирая на ветреный закат, выдался ясный и солнечный.
Буткин вскочил, оглядел землянку и стал поспешно одеваться. «Эх ты, Аника-воин, — думал он о самом себе с неудовольствием, — лежишь, нежишься… Привык там, в райкоме-то, прохлаждаться…» Он в эти минуты до того был жесток к самому себе, что не замечал даже в мыслях своих вопиющей несправедливости. Да было ли так? Мог ли он там, в райкоме, хоть один день провести беззаботно, без напряжения? Кто же в районе не знает, сколько тревожных, бессонных ночей провел он в своем кабинете, помещавшемся в углу большого деревянного дома… Разве это не он в пору сева и уборки урожая носился на испытанном «газике», появляясь всегда кстати, всегда вовремя то в одном конце района, то в другом, по суткам, по двое не смыкая глаз? Но теперь обо всем этом он и не вспоминал. «Проспал… проспал… Батальон, наверное, давным-давно на ногах». Разгорячив себя этими мыслями, он представил, как комбат Тихонов, посмеиваясь и посматривая на землянку, думает: «Комиссар мой, видимо, предполагает, что он попал не на границу, а в дом отдыха».
Буткин наспех обмотал ноги портянками, натянул сапоги и взялся за ремень. В этот момент дверь землянки осторожно открылась, и Буткин увидел Тихонова. Капитан был, вероятно, убежден, что комиссар еще спит, и вышагивал почти на цыпочках.
— А! Вы уже встали! Лежите, лежите, вам после дороги надо как следует отдохнуть, — проговорил Тихонов.
Но Буткин стоял уже в одежде, в сапогах и ложиться в постель больше не намеревался. Понимая, что Буткин больше не ляжет, Тихонов предложил:
— Ну, коль не хотите ложиться, может быть, позавтракаем? Я велю принести нам сюда.
— Это другое дело! — с живостью отозвался Буткин. — Пока вы завтрак заказываете, я тем временем умоюсь, приведу себя в порядок.
Они вышли из землянки на простор. Тихонов — чтоб заказать завтрак, а Буткин — с полотенцем и мыльницей в руках.
Через десять минут они сидели за маленьким столиком и пили чай из голубого эмалированного чайника. Пользуясь тем, что они одни, Буткин завел разговор о своей службе в батальоне, о том, с чего ему начать, на кого опереться.
— Признаюсь вам, товарищ капитан, чистосердечно: армию, условия работы в ней знаю плохо. Подумайте только — не служил с двадцать второго года. Как кончил Гражданскую войну, демобилизовался и с тех пор о Красной Армии сужу по газетам. А ведь у вас тут много воды утекло, много всяких перемен произошло. Техника, уставы, дисциплина — все это новое. Далеко шагнули вы… — озабоченно морща и без того морщинистый лоб, говорил Буткин.
Он говорил все это не для того, чтобы под предлогом неопытности уменьшить ответственность, возложенную на него. Нет, Буткин был человек трезвого разума, он отчетливо сознавал трудности, которые встают перед ним на новом поприще, и не хотел уклониться от этих трудностей.
Искренность Буткина тронула Тихонова. Он понял: прислали в батальон комиссаром человека прямого, открытого, из той породы людей, которые не любят скрывать ни своих достоинств, ни своих недостатков и дело, работу свою, общие интересы выдвигают на первый план.
— Знаешь, Петр Петрович, что я хочу сказать тебе, — обращаясь к Буткину на «ты» и впервые называя его по имени и отчеству, проговорил Тихонов, внимательно глядя на комиссара. — Живое прочувствованное слово нужно сейчас нашим людям. События идут суровые, половина батальона из районов, которые уже оккупированы немцами. На душе у людей сейчас нелегко. Я заметил: как наши оставили Смоленск, так бойцы даже песен стали петь меньше. А ведь батальон на три четверти из молодежи!.. И потом восток, японцы, — продолжал Тихонов после короткой паузы. — С одной стороны, мы резерв для запада, а с другой — мы авангард на востоке. И вот надо, чтобы наши люди поняли это. Я лично убежден, что столкновения с японцами нам не избежать. Так или иначе, а весь узел дальневосточных противоречий не развязать без участия Советского Союза.
Буткин слушал Тихонова с большим вниманием и, будучи человеком партийным не по форме, а по всему складу души своей, размышлял не только о том, о чем говорил капитан. «Каких же замечательных людей вырастила наша партия!» — думал Буткин, глядя на взволнованное лицо Тихонова.
Когда Тихонов умолк, высказав все свои соображения о постановке политической работы в батальоне, заговорил Буткин. У него было немало дельных предложений. Прежде всего надо собрать коммунистов, их в батальоне набиралось свыше тридцати, затем подобрать знающих групповодов, начать регулярную политическую учебу, взяться за самодеятельность. Благо, этот сержант Соловей прибыл со своим собственным баяном…
Тихонов слушал Буткина и утвердительно кивал головой. Хотя комиссар, начиная беседу, предупредил, он-де армии не знает, но все, что он предлагал, было жизненно и целесообразно.
План политической работы был записан на листок, когда дверь землянки с визгом открылась и в нее вбежал взволнованный, вспотевший адъютант старший Власов.
Тихонов хорошо изучил своих подчиненных и по первому взгляду, который он бросил на Власова, понял, что адъютант старший чем-то не просто взволнован, а потрясен.
— Что там, Власов, случилось? — вставая из-за стола, спросил Тихонов.
— Почта, товарищ капитан, пришла. В газетах сообщают, что наши войска оставили город Орел. Теперь немец попрет на Москву. А еще, кроме газет, писем много пришло. Один боец из егоровской роты, Ефим Демидков, получил письмо от сестры, которая пробилась через фронт из Смоленской области и приехала к своей старшей сестре в Читинскую область. Это же читать невозможно, товарищ капитан! — со стоном воскликнул Власов, и его лицо исказилось.