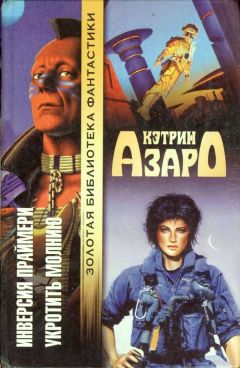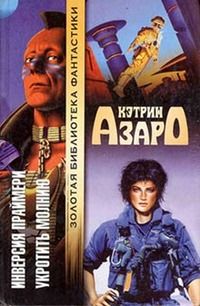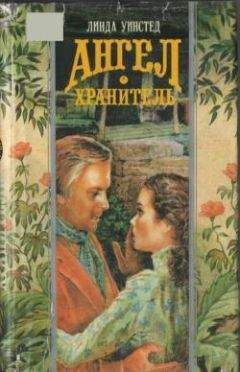Много лет мы переписывались с Андреем Безверховым; я знал, что он живет в Клину и работает технологом на химзаводе, что его жена заведует промтоварным магазином, а дочка дважды неудачно выходила замуж, — а вот встретились мы с ним впервые после той проклятой декабрьской ночи, которая резко развела в стороны наши судьбы.
Так-то посмотреть сторонним взглядом — все в порядке, не видно ведь, как ноют раны. Не слышно, как все еще — четверть века спустя — эхо тех ночных взрывов отдается в нашей крови протяжным гулом. Встретились ветераны, хоть и побитые изрядно жизнью, но выжившие, живые, везучие. Не так ли? Мы сидим ряд за рядом в голубом зале, слушаем торжественные речи, из президиума с улыбкой взирает на нас бывший командир нашей базы, генерал-лейтенант в штатском пиджаке. С ним рядом сидят герои гангутской обороны — летчики, катерники, снайперы. Жаль, нет командира десантного отряда Гранина. Болеет наш капитан (давно он уже полковник, но для нас, бывших десантников, навсегда останется капитаном). Зато в почетный ряд затесался Сашка Игнатьев: он теперь человек заметный, нашумевший своей поэмой «Гангутская баллада». Летом прошлого года, когда я навестил Сашку во Владимире, мы уговорились, что он напишет к юбилею статью и пробьет ее в какую-нибудь центральную газету. Статью, в которой будут названы те из нас, кто никогда ни в каком поминальнике не назывались, — Безверхов, Ефим Литвак, маленький Ерема, Ленька Шатохин, другие неизвестные бойцы. Сашка со статьей долго тянул, но в конце концов написал, и недавно, в ноябре, она появилась в «Известиях» под названием «Откликнитесь, кто жив, гангутцы!». Здорово он написал, молодец! Статья имела по крайней мере одно важное последствие: нашелся наконец Ефим Литвак. Но это произошло позднее, в феврале 67-го года. А на декабрьской встрече в Ленинграде мы с Андреем, сидя в зале и слушая речи, тихонько переговаривались.
Я предлагаю ему послать записку в президиум, попросить слова. «Зачем? Без меня тут складно говорят». — «Расскажешь, как вы остались на «Сталине». Как ждали, что помощь придет. Как из плена бежал». — «Да ты что, Борис? — Андрей косится на меня взглядом, полным недоумения. — Разве можно тут?» — «Как раз тут и нужно, где гангутцы собрались». — «Да собрались-то для чего? Чтоб победу вспомнить». Так-то. Не принято у нас омрачать благостность юбилейных (да и не только юбилейных) собраний. Свои обиды и горести, несогласие свое не тащим на трибуну. А я разве не такой же? Разве не тяну руку вместе со всеми, чтобы, не дай бог, не внести разлад в стройность единогласия?
Кончили заседать, выходим мы с Андреем в фойе, смотрим — стоит, опираясь на палку, наш командир базы, высокий, грузный, почтительно окруженный людьми. Идет бурный разговор: а помните то, а помните это… Вдруг я ощутил, словно удар тока, знакомый безрассудно-удалой импульс… А, была не была! Проталкиваюсь сквозь плотное кольцо к командиру базы. «Товарищ генерал, — слышу собственный напряженный голос, — извините, что, может, не вовремя… Как раз двадцать пять лет назад подорвался на минах турбоэлектроход «Иосиф Сталин». Сергей Иванович… как могло случиться, что людей там бросили? Почему не прислали помощь?» Генерал хмурится. Стоящий рядом с ним пожилой полковник с огромным «иконостасом» на широкой груди грозно оглядывает меня: «Вы что это говорите, товарищ? Как это «бросили»?..» — «Погоди, Кузьма. — Генерал дотрагивается до его живота, вызвав звон медалей. — Ты на Ханко где служил? (Это мне.) У Гранина? Так я тебе скажу, сынок, — вдруг повышает он голос, — почему не пришла помощь. Чему у нас в училищах учат? Всему! Корабли водить, из пушек стрелять, из торпедных аппаратов.
Одному только не учат — дерзости! — Он с силой стукнул палкой о паркет. — Решительности! — Опять удар палкой. — Это — или есть у человека, или нет! Ты понял, сынок?»
Вот теперь я понял. Теперь разрозненные фрагменты — случайно подслушанный четверть века назад разговор на гогландском причале и все, что я знал от Безверхова, все, что узнал от капитана Нефедова на Камчатке и от капитана первого ранга Вьюгина в Калининграде, — все теперь как будто встало на свои места, образовав единую, пусть еще не во всех деталях ясную картину.
— Ты понял? — говорю Андрею Безверхову вечером того же дня за накрытым столом в шамраевской квартире. — На Гогланде стоял отряд прикрытия, имевший задачу: помощь кораблям, подорвавшимся на минах.
— Знаю, — кивает Андрей, нацеливаясь вилкой на кружок колбасы.
— Этот отряд и должен был прийти и снять вас со «Сталина».
— Должен был, а не пришел. Мы ждали, глаза проглядели, а море — пустое…
— Помнишь, я тебе писал про книгу воспоминаний командующего флотом. Там есть про это. Оперативная обстановка не позволяла. Без прикрытия с воздуха посылка отряда кораблей могла привести к еще большим потерям.
— Да, ты писал…
— Все верно, обстановка не позволяла, это и Вьюгин подтверждает, и Нефедов, хоть его тральщик и готов был выйти…
— А как же нас учили, — вскидывает голову Безверхов, — как же учили: сам погибай, а товарища выручай?!
— Вот! Ты же слышал, что командир базы сказал? У кого-то дерзости не хватило! Решительности!
Андрей встает и, припадая на раненую ногу, стуча палкой, ходит по комнате, бормочет что-то под нос. Сколько лет промчалось, а время не остудило, как видно, жгучее воспоминание. Страшное видение пустого моря не дает человеку спокойно сидеть за столом. Владлена с беспокойством смотрит, как он мечется по комнате. Я делаю ей знак: не вмешивайся. Андрей успокаивается. Снова садится за стол. Мы выпиваем по третьей рюмке — по традиции — «за тех, кто в море». Сашка Игнатьев обещал прийти в восемь, уже десятый час, — наверно, не придет Сашка. Подозреваю, что у него тут амурные дела. Ладно. Вот жаль, что Ушкало не мог приехать: у него на базе в это время всегда переучет. Мне-то ничего, мы с ним в одном городе живем, видимся, хоть и не часто, а вот Андрей мечтал со старым другом повидаться. Рассказываю Андрею про Ушкало, как он со своей Шурой воюет из-за детей. Андрей спрашивает про Толю Темлякова. Рассказываю и про Толю, как высоко он взлетел, только умалчиваю о том, как в прошлом году мы разругались из-за его книжки. Толя должен был присутствовать на сегодняшней встрече. Дела, должно быть, помешали. Он человек занятой, и дела у него поважнее наших. Спрашиваю Андрея про его двоюродного братца Виктора Плоского, который, как я знаю, лет десять назад демобилизовался. «Где-то работает, — неохотно говорит Андрей. — На письма не отвечает. Встреч избегает. Много пьет».
От четвертой он отказывается. Владлена приносит чай, садится и, подперев щеку ладонью, слушает Андрея, как у них на химзаводе пьянства стало чересчур много, да что это за такая зараза ползет?.. Владлена подхватывает, у нее всегда наготове всякие страшные истории, и тут-то Андрей и высказывается за порядок, какой был при Сталине. А я говорю — такого порядка не надо, и мы схватываемся в споре, вдруг ожесточаемся, кричим друг на друга, слюной брызжем… ужасно…
— Мы за него в бой шли! — орет Андрей.
— За свою страну! — ору я.
— Умирали с его именем!
— Да, умирали! А он жалел нас? Он тебя за изменника считал!
— Меня?! — раздирает рот Андрей.
— Всех наших военнопленных, — значит, и тебя! Даже своего сына! От сына собственного, попавшего в плен, отрекся! Немцы предложили обменять его сына на Паулюса, а он отказался! Какому-то иностранному журналисту ответил, что у него нет сына Якова! Яков в Заксенхаузене с отчаяния бросился на проволоку под током…
— Откуда знаешь? — недоверчиво глядит Андрей. — Басня это!
— Нет, не басня!
— Ты маленький человек и не мог знать, что наверху происходило. Тебя не спрашивали!
Я спохватываюсь: ну чего, чего мы вдруг разъярились? Почему не можем спокойно? Почему, стоит разговору стать острым, начисто забываю о принципе спокойствия, который сам положил себе за правило?
— Ты прав, — говорю тихо. — Не спрашивали. Просто все тайное со временем становится явным. Докатывается и до маленького человека. Если, конечно, маленький человек не безнадежный олух.
На станции Швенчёнеляй наш скорый стоит недолго. Темное станционное здание размазано дождем, струящимся по стеклу. Вот и начинаются долгие осенние дожди. Светка не любила это время года. Мечтала укатить от осенней непогоды на юг, к Черному морю. Однажды, только однажды, нам удалось осуществить ее желание — провести часть осени в Феодосии, куда нас зазвал Шунтиков.
Из купе вдруг вываливается встрепанный старший лейтенант, устремляется по коридору к выходу из вагона.
— Стойте! — кричу. — Сейчас тронемся!
Старлей возвращается с сомнением на лице. Розовая щека хранит отпечаток складок подушки. Тут поезд трогается.
— Эх, не успел сигарет купить, — вздыхает старлей.