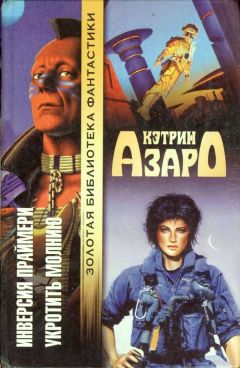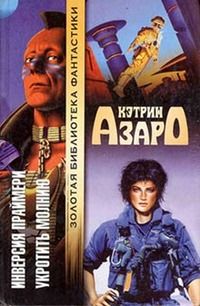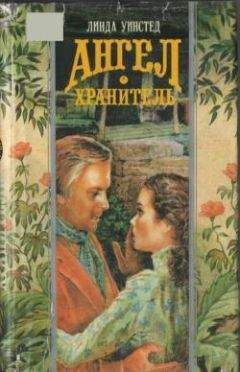А «ихий океан решил напоследок показать мне все, что он умеет. Штормы того лета сменяли один другой почти без передышки. С ревом они вздымали наш сухогруз к небесам, низвергали в черные бездны, где не было воздуху, одна водяная пыль, пароход стонал, кричал от боли старыми своими переборками, а мне было впору молиться. Неужто я уцелел на войне, на кронштадтском льду, в торпедных атаках для того, чтобы лечь на холодное дно Охотского моря?
Один из последних рейсов того лета мы выполняли на Владивосток. Приняли там груз, снялись, благополучно пересекли Охотское море. На подходе к Курилам, к проливу Крузенштерна, на нас обрушился очередной шторм. Шли медленные волны-горы, которым ничего не стоило шмякнуть наше суденышко о скалы, именуемые Ловушкой. Наш штатный капитан был в отпуску, а подменный капитан Нефедов, мало мне знакомый, почему-то не вызывал доверия. Наш бы сидел сейчас в своем кресле на мостике, не доставая короткими ножками до палубы, и отдавал толковые распоряжения. А этот Нефедов торчал у локатора, то и дело глядя на развертку, и свет плафона неприятно отражался на его бритой веснушчатой голове. Именно такую картину я увидел, войдя в навигационную рубку с какой-то радиограммой.
Нефедов скомандовал поворот, мы легли на курс, по-моему опасно острый к волне, пошла ужасная бортовая качка, крен достигал критических градусов. Как бы груз не сорвало с креплений — тогда мы погибли. О чем думает этот гололобый, черт его дери? Но думал он верно. Вскоре судно оказалось в бухте Закатной у западного побережья острова Шиашкотан, тут было сравнительно тихо, мы отдали якорь и стали пережидать шторм.
Тогда-то мы и разговорились с Нефедовым. «Начальник, — сказал он, водрузив на голый череп франтоватую фуражку. — Не о тебе ли я слыхал, что ты воевал на Балтике?» Оказалось, что мы с Нефедовым второй раз сходимся на одной палубе. Первый раз сошлись 3 декабря 1941 года — да, да, в ту самую ночь. Нефедов служил на тральщике, на который я сиганул с борта подорвавшегося транспорта. Он был тогда старшиной группы мотористов и парторгом корабля. Как видите, нам было что вспомнить тут, в бухте Закатной, на другом конце земли. Земля-то широко размахнулась — но мир, в сущности, тесен.
Не потому ли тесен, что мы соприкасаемся не только локтями, но и душами?
Я спросил капитана Нефедова, почему, по его мнению, не отправили на помощь «Сталину» отряд кораблей. Вот что он сказал дословно: «Да мы ж собирались идти. В ночь на четвертое декабря и весь день у Гогланда стояли в готовности. Меня комиссар вызвал и говорит — собрание проводить не будем, а предупреди людей, поход будет трудный и опасный. Чтоб каждый коммунист своим примером — ну, сам знаешь. Ты ж партийный? Ну вот. У нас экипаж, между прочим, был замечательный. Ребята — один к одному. Да, готовились идти на помощь. А приказ не поступил».
Сильно штормило в то лето. Но мой последний рейс прошел по тихой воде. Океан словно прощался со мной. Плавно вздымалась в спокойном дыхании его мощная синяя грудь. Он выстелил нам вход в бухту Н. сверкающим солнечным ковром. Он был таким, какими снятся океаны мальчишкам. Или теперь мальчишки перестали читать морские романы?
В эту бухту нам и раньше доводилось заходить — привозили снабжение для военно-морской базы. Я стоял на крыле мостика, смотрел, как солнце садилось за сопки, словно погружаясь в золотую ванну. Стонали краны, вынося из обоих трюмов ящики с грузом. Вдруг среди военных моряков на причале я увидел высокого седоусого капитана первого ранга. Он распоряжался, распекал, снимал стружку — так же грозно и хрипло, как когда-то в Моонзунде…
Некоторое время я наблюдал за ним. Потом сбежал по трапу на причал и направился к старому знакомцу. «Вы капитан первого ранга Галахов?» — «Да». Он уставился на меня с недоумением: что за шпак объявился? «А я Земсков. Помните? На Балтике встречались в войну». В его начальственном прищуре мелькнуло, как мне показалось, выражение усталости. И еще нечто такое, что можно выразить восклицанием гоголевского генерала, обнаружившего Пифагора Пифагоровича Чертокуцкого в коляске: «А, вы здесь!» Я счел нужным пояснить, что плаваю на этом пароходе начальником рации. «Ну и что вам надо, Земсков?» — хмуро спросил Галахов и, не ожидая ответа, пошел по причалу. «Ничего не надо. — Я тоже двинулся, не отставая. — Кроме одного. Товарищ капитан первого ранга, помните Гогланд, декабрь сорок первого? Корабли стояли в готовности. Почему вы не отправили их на помощь…» Я не договорил. Галахов остановился, приблизил ко мне лицо, искаженное злобой, в следующий миг я услышал короткую оскорбительную фразу. Кровь бросилась мне в лицо. За такую фразу дают пощечину. Я не успел, растерялся, Галахов, круто повернувшись, зашагал прочь. Бежать за ним, требуя сатисфакции? Глупо…
Сам не знаю, зачем вспоминаю эту горькую сцену. Не хотел бы, чтоб вы думали обо мне как о фанатике, одержимом навязчивой идеей. Не такой уж я правдоискатель. Но что-то сидит во мне упрямое, не позволяющее разменивать то, что ценишь в себе, на медяки дешевых уступок.
Теперь много говорят и пишут о быстро меняющемся мире. Это так. Научно-технический прогресс мощно подстегнул всю упряжку. Но ведь были, есть и, надеюсь, пребудут вечные ценности жизни.
К этому, собственно, я и клоню. Вы понимаете? Не надо мне было на долгие годы уходить в моря. Каждую минуту, да, каждую минуту жизни я должен был прожить рядом с моей любимой. Но кто мог знать тогда, что дорога каждая минута? Мы были молоды, жизнь казалась бесконечной, и ни Светка, ни я не догадывались, что блокада подстерегает нас, затаясь в засаде…
* * *
После стоянки в Даугавпилсе мы со старлеем ужинаем в вагоне-ресторане. За широким окном с не очень чистыми занавесками день туманится, темнеет. Мы пьем пиво и едим невкусный железнодорожный шницель с жесткой картошкой.
— Вот вы, Борис Павлович, когда выступали у нас, — говорит старлей, — рассказывали о лейтенанте, который прикрыл ваш катер дымзавесой, а сам погиб. Как его фамилия?
— Варганов. Марат Варганов.
— Да. — Старлей отхлебывает из стакана. — Мы знаем Осипова, Гуманенко, Афанасьева, Ущева, — он перечисляет знаменитых балтийских катерников. — Почему не знаем Варганова?
— Он рано погиб. И вообще воздано по заслугам далеко не всем. Кто-то попадал на глаза братьям-журналистам, а другой оставался незамеченным. Такое бывало. Кому как повезет.
— О катерниках очень мало написано, — говорит старлей. — Вообще почти нет серьезных книг о флоте. Зато попадаются такие, что читать неловко. У одного автора полубак находится на корме. Другой путает отличительные огни с гакабортными. Это вранье, которое сразу видно. А сколько такого, которое мы не замечаем из-за незнания фактов?
— Врут обычно не участники событий, а сторонние люди, — говорю я.
И тут же спрашиваю себя: а как быть с книжкой Темлякова «Залп за Родину»? Автор — участник событий, не сторонний человек, отнюдь. А разве не соврал он, умолчав о Литваке? Разве не попытался приукрасить событие и — прежде всего! — свое поведение в нем.
Увы, врут и участники. Почему так часто путь к истине перекрыт вот этим неукротимым стремлением человека украсить себя, выглядеть лучше, чем ты есть?
* * *
Ефим Литвак… Моя боль на всю жизнь… Вот уж с кем немилосердно обошлась своенравная дама по имени Судьба…
Мы с Безверховым долго искали Литвака. Но следы его после войны затерялись. Куда только мы не писали, куда не слали запросы! Нигде он не значился. Думали, его потянет в родные края, на Витебщину. Нет, и там о нем не знали. Сгинул Литвак.
Что мы могли еще сделать? Ничего не могли. Как говаривал мичман Жолобов, «выше лба уши не растут».
И все-таки сработала одна моя идея.
Летом 1965 года я отправил Светку с Наташей в Ленинград, а сам заехал к Сашке Игнатьеву во Владимир. Он жил тогда в тесном рубленом доме жены, вернее жениных родителей, на улице Учпрофсож, круто спускающейся к вокзалу. После полосы неудач Сашка начинал идти в гору, издал в столице две книжки сильных стихов, приобретал всесоюзную известность. Несколько погрузневший, заматеревший, он, как встарь, сыпал рифмованными прибаутками, насмешливо выпячивал нижнюю губу. Два дня мы веселились, вспоминая смешное, подначивая друг друга. От моей идеи — написать статью в центральную газету о Гангуте с призывом к участникам обороны откликнуться — Сашка отмахивался: не с руки, мол, статьи писать, со стихами бы управиться. Но я наседал крепко. Перед отъездом вырвал-таки у Сашки обещание написать статью.
И вот она появилась в «Известиях» в конце 66-го года, накануне декабрьской встречи гангутцев в Ленинграде. А в феврале 67-го Сашка с трудом прозвонился из Владимира в Калининград и потряс меня замечательной новостью: отыскался Ефим Литвак!
Из какой-то Борзни, райцентра Черниговской области, в «Известия» пришло письмо от фельдшера районной больницы: дескать, попалась на глаза статья о Гангуте, там упоминается «неизвестный герой» Ефим Литвак, а этот Литвак как раз лежит у них в больнице, сам писать не может, и он, фельдшер, решил, что «раз кличут так надо отозвацца», и вот пишет заместо Литвака. Его письмо «Известия» переслали Сашке Игнатьеву, Сашка позвонил мне, я тут же дал телеграмму Андрею Безверхову в Клин. Само собой, с Василием Ушкало созвонился. И собралась в эту Борзню большая экспедиция.