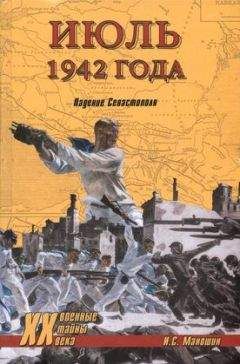Есть ведь такие вещи, которые не то что Аверину, себе не объяснишь. Вот взять хотя бы тех же поляков. Почему после призыва в тридцать девятом ты, интеллигентный русский юноша, не шовинист какой-то великодержавный и уж точно не большевик или украинский националист узколобый, ты, Алексей Старовольский, у которого в роду со стороны матери в Сибири перебывало столько народу, что иному польскому патриоту и не приснится, ты, весь такой правильный и образованный, не прошибаемый никакой пропагандой, ты – если не радостно, то все ж таки без принуждения и даже не без злорадства – горланил, маршируя в строю, эту песню дурацкую, не забыл? «Сила панская дрогнет и сломится, на штыках наших доблестных рот. Артиллерией, танками, конницей мы проложим дорогу вперед. Белоруссия родная, Украина золотая…» И до сих пор в этом не раскаиваешься и не раскаешься никогда. Потому что крепко засел в памяти этот польский парад на Крещатике и это их торжество от того, что Россия гибнет. Пусть же теперь на шкуре своей испытают, как это невесело – погибать. И бить вас будут вашим же оружием – «Украиной», чьи права на «независимость» во время наступления на Киев продекларировал ваш начальник Пилсудский. А вы как думали – воспользоваться чужой бедой, хапнуть побольше и отсидеться за спиной у Антанты? Не вышло, панове, добро пожаловать в сердечные объятия кремлевских азиатов. А уж потом, в сороковом, когда стали бить по-настоящему, и пошли слухи о новых арестах, и потянулись на восток эшелоны с выселяемыми, никакого злорадства не осталось и вновь залила сердце лютая ненависть ко всем этим, кто изувечив твою страну, принялся теперь за другую.
Да и шут с ними, с поляками, к чему такие сложности. Тут и о многом другом не расскажешь, куда более близком. Например, как после Гражданской, когда все утряслось и России, казалось, не стало, но отец твой, и мать, и ты сам все же остались живы – а вот младшего брата пришлось схоронить, когда среди зимы возвращались из отступления, – после всего этого, стало быть, когда все худо-бедно устроилось и даже был объявлен нэп, людей вдруг стали гнать со службы не только за «политику», но и за незнание нового языка. И отец твой, кто бы мог подумать, вдруг в силу своей начитанности и природного любопытства оказался среди знающих, и потому отчасти привилегированных, хотя картину портило происхождение и боевые заслуги на германской войне. Но ведь должен был кто-то работать за несчастных крестьян, в одночасье делавшихся начальниками и тоже не знавших этого языка, которого вообще никто не знал, кроме поспешно творивших его писак да понаехавших из Польши обманутых галичан. Или как мать твоя устроилась в читальном зале – и ее выкинули оттуда, когда старая жаба Крупская добралась до народных библиотек. Выкинули вместе с Платоном, Достоевским и Тютчевым. И как потом – ты был уже студентом – отца снова арестовали, и как ночами мать не спала, а тебя самого вышвырнули из политехнического. И как спустя два года отца освободили, и потом он молчал месяцами – пока не пришла война.
– Товарищ лейтенант, что с вами? – спросил я Старовольского.
– Ничего, Алексей, все в порядке, – тихо ответил мне он и снова ушел в себя. Думал, должно быть, о прорыве на мыс Херсонес.
И все-таки, как сложно было всё. Нестеренко тогда, правоверного, хоть и честного Нестеренко, без пяти минут коммуниста, прорабатывали за великорусский шовинизм. Впрочем, не арестовали, и ладно. А в Москве – кто бы мог подумать, в Москве – в государственном, в советском театре шла постановка по пьесе их земляка, про это вот самое, что было при гетмане и при Петлюре, и люди шептались: о нас. И пели в компаниях полузабытые песни, вспоминая с тоской что было и то, что уже не вернуть. Но все же на что-то надеялись. «Украинцы» бесились, ездили к усатому, что-то ему доказывали, а он хихикал над ними и отсылал их прочь. А потом опять арестовывали и снова кого-то стреляли.
Трудно быть киевлянином, когда вселенная перевернулась и в ней торжествует подлость.
* * *
– Подразделение, стройся, – произнес Старовольский шепотом, когда я разбудил Меликяна с Мухиным, и они, натыкаясь в темноте на стены и друг на друга, собрали свой нехитрый скарб.
Услышав команду, Мухин развеселился и пробормотал:
– В три шеренги.
– Отставить пустые разговоры, – все тем же шепотом отрезал лейтенант. – Подтянулись, животы убрали.
– Ага, есть что убирать, – продолжал комментировать Мухин. Старовольский пока не сердился, а тоже проявлял веселость.
– Равняйсь, – вышептывал он нам. – Видим грудь четвертого товарища… На первый-второй рассчитайсь…
– Раз, два, три, четыре, пять, – шептал за всех нас Мухин, – двадцать, тридцать, шестьдесят…
В тон бытовику младший лейтенант объявил:
– Итак, как вам известно, положение наше архихреновое.
– Разрешите вопрос? – поинтересовался Мухин. – «Архи» это как?
– Это так, что хреновее не бывает. А потому необходима строжайшая дисциплина и высочайший боевой дух. Все поняли? Мухин понял, вижу. Он всегда отличается если не первым, то вторым. Меликян тоже.
– Шнобелем он отличается, – уточнил Мухин, – и повышенной волосатостью.
– Аверин… – продолжил лейтенант.
– Первым точно, – вставил Мухин, – вторым надо посмотреть.
– Слушай, урод, ты замолчишь когда-нибудь? – возмутился Меликян. Хоть и шепотом, но несколько громче, чем следовало.
– Давай, давай, выслуживайся. В наряд по кухне не пойдешь.
Я тоже не выдержал и шикнул:
– Да замолчи ты наконец!
Старовольский усмехнулся.
– Пусть выговорится. Есть еще замечания, товарищ красноармеец?
– Замечаний больше нет, товарищ младший лейтенант.
– Тогда заткни свое хайло и не воняй. Так понятно?
– Так понятно, – согласился Мухин.
Старовольский перешел к сути дела. Сказал, что Мухин отправляется в разведку. Задача – пользуясь темнотой, осмотреться снаружи и отыскать свободный от немцев проход. Мухин, не ставя под сомнение задачу как таковую, усомнился в целесообразности своей кандидатуры.
– С хрена ли я, товарищ командир?
– Ты же у нас тут самый боевой. Меликян ранен. Аверин еще…
Мне захотелось обидеться. Мухин же разозлился.
– С Авериным ясно. А вы? Я ведь, лейтенант, человек ненадежный, не первый срок мотаю. Это вы у нас герой. Рыцарь без страха и упрека. И за пистолетик не хватайтесь. А то немцы услышать могут.
Неожиданно для него Старовольский не стал пререкаться.
– Ладно. Красноармеец Мухин, остаетесь за старшего. Потом договорим.
Мухин, не предполагавший, что дело решится так быстро, растерянно пробормотал положенное по уставу «есть». Я попытался встрять. Не потому что сильно хотелось, а потому что сделалось стыдно.
– Товарищ младший лейтенант. Разрешите мне.
– Разговор окончен. Вот, возьми, Алексей. Пусть пока у тебя побудет. А то блестит, демаскирует.
Лейтенант передал мне пилотку со звездочкой и, резко повернувшись, направился к лестнице, выводившей из подвала на первый этаж. Бесшумно ступая, поднялся наверх и протиснулся в дверной проем, примерно на три четверти заваленный обрушившимися кирпичами.
Я присел на перевернутое пустое ведро, служившее мне стулом последние два вечера. Меликян с бесшумным стоном опустился рядом, на кучу строительного мусора, остававшуюся тут с довоенных, а может, и дореволюционных времен. Мухин остался стоять.
Прошло примерно полчаса. Мы молчали. Горло распухло от жажды, про еду давно не думалось. Непонятно было, что происходит наверху. Тишина становилась невыносимой. Мухин не выдержал и, поднявшись по лестнице, осторожно выглянул наружу. И как раз в этот момент раздался страшный шум. Выкрики, приказы, нестройный топот ног. Взревела мотором машина. Грохнуло несколько выстрелов. Мухин скатился вниз.
Мы прождали еще два часа. Старовольский назад не вернулся. Когда забрезжил рассвет и улица вновь оживилась, Мухин угрюмо сказал:
– Похоже, накрылся у нас лейтенант. Мог бы еще человеком стать, да только не довелось.
Кавказский берег
Старший политрук Земскис
Начало июля 1942 года
Меня вывезли из СОРа через несколько дней после захвата гитлеровцами Северной стороны. Старшина Зильбер, рекомендуя эвакуацию, был, безусловно, прав. Мое ранение не только давало право, но и вменяло мне это в обязанность. Подразделение перестало существовать, дивизия в целом тоже, между тем как потребность РККА в опытных политработниках к концу первого года отечественной войны вовсе не сделалась меньше. На Кавказе формировались новые и переформировывались старые части, близилась грозная битва, командных кадров катастрофически не хватало. События последующих дней еще раз показали правильность принятого решения. Сложная обстановка под Курском и трудности на Волховском фронте (вчера мне конфиденциально сообщили некоторые крайне неприятные подробности) красноречиво свидетельствовали – судьба Советской Родины решается отнюдь не в Севастополе. Такова была горькая правда войны, и с ней приходилось считаться.