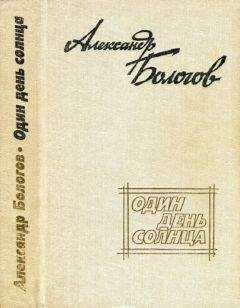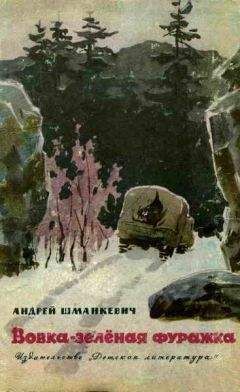Сыновья — обоих теперь так называла — поднялись с печи вместе с ней, чутко следили за всем, что делала мать. Вот она осадила опару, подсыпала муки, промяла кулаком, перевернула тесто — и так несколько раз, пока не посчитала готовым.
— Замесила, — сказала шепотом и заново укутала кадушку, перевязала поверх бечевкой.
А как волновалась-то, господи!.. Едва жильцы покинули дом, взялась за печь. Истопила подходящими дровами, выгребла уголья в чугун с крышкой, отмела золу, прицепив к палке тряпку, сладила помело и до пылинки вылизала обкатанный под. По дальним непрогретым концам свода виднелись угловые черноты, но они на глазах истаивали, светлели, и Ксения затворила чело заслонкой. Взялась за тесто.
Оно хорошо поднялось — тугим горбом: не обманули, выходит, с гущей.
Отрубая ребром ладони нужную долю, Ксения ловко округляла его в мокрых ладонях и опускала на присыпанную отрубями оборотную, чуть выгнутую, сторону деревянной лопаты. Затем снова окунала руки в миску с водой, быстрыми движениями оглаживала верхушку и, начертав на ней пальцем крестик — так всегда делала мать, — бралась за черенок. Поставленный у заслонки Вовка, поджидая момент, мигом отнимал ее, горяченную, от чела, и Ксения, на ходу приловчаясь к подовым границам, усаживала хлебы в печь.
Дивное их превращение пробрало до слез. Чего бы, кажется? — много раз видела это в родительском доме, месить помогала, печь готовила, разве что только посадку и не доверяла матушка никому — как завершение дела. Ан нет, со слезой на привязи выпростала Ксения из остывающего зева свои прыгучие караваи, сбрызнула, как водится, водой, покрыла вместо полотенца чистой тряпицей.
От последнего, подгорелого сбоку, отрезала детям по большому ломтю — не вволю, но и не в обиду. Одну ковригу выделила Нюрочке, отправила к ней ребят. Долго ждала обратно. Уже и немцы побывали на обеде — все разом поводили носом по кухне: такого духу не слыхивали, — Ленка успела руки оттянуть, пока снова, накормленная, не затихла в качалке, а их все не было.
Сомнения всякие в голову полезли: не случилось ли что дорогой? И точно: вернулись наконец с Нюрочкой вместе, товарка в слезах. У Вовки один глаз весь заплыл, у Костьки щека поцарапана, нос разбитый рукой зажимает. Батюшки, это что же за такое?! А такое, что хорошо еще, калеками не остались. Костька стал щеку промывать, нос охолаживать. Вовка на печку влез — там скулил от обиды, а уж Нюрочка поведала, как за Сергиевской горкой, у Базарных ворот, семинарская шпана — а кто же еще! — отняла у мальчишек хлеб, как они бились за него с рослыми ребятами и звали на помощь, да никто им не пособил. Так они ей, горемыки, рассказали, добравшись с пустыми руками до ее дома.
— Ой, Ксюша, на Сакко-Ванцетти намедни одному трубою голову проломили — ограбили. Всего начисто раздели. Останется ли живой… И их бы чем могли, — качнулась она в сторону плескавшегося у рукомойника Костьки, — избави бог.
— Не говори, — отозвалась Ксения, представив на миг чью-то разбитую голову и ребят своих, покалеченных безжалостной бандитской рукой. И первая злость, а скорее слепая досада, захлестнувшая было всю ее при известии о потерянном хлебе, тотчас ушла из души, уступив место беспомощным слезам обиды и поругания.
— Ну что ты! — обняла ее за похудавшие плечи Нюрочка. — Неужто не переживем? Да подавятся они этим хлебом, чтоб им провалиться! Накажет их бог, помяни мое слово, чтоб им пусто было!..
— Да нам-то то? — Ксения собирала в угол платка слезы и качала головой.
— Опять в деревню пойдем. Попрошу кого с моими побыть и тоже пойду, подушку одну, одеяло ватное понесу, черт с ним, не замерзнем в кучке: все теперь в одном месте спим. Картохи припрем, брюквы! Да за одеяло я с них!..
Ксения слушала уверенное слово подруги и вроде бы сама крепла духом. Но главная боль просилась наружу.
— У кого же защиты просить?.. В город выйди! Назад вернешься ли?..
— Та-ак, та-ак… Чуть к темну — одна ни-ни, только еще с кем. В развалинах каких или где людей нет — ни в коем случае! — Нюрочка сделала страшное лицо. — В горсаду-то слыхала?
— Чего?
— Да как же, Ксюша! — Нюрочка всплеснула руками. — Там немца убитого в кустах обнаружили и тут же на месте десять человек захватили — всех, кто был, кто рядом попался. Ни кто ты, ни что ты, — как взяли, так и убили всех на Культурной площади. Все мужики старые да ребята постарше.
— Да что ты?!
— Истинный бог! Там же столбы врыты для этого специально. А раз врыты, — значит, у них и планы такие. Убитые, говорят, с неделю на них висели, закоченелые, у двоих даже веревки лопнули — не выдержали…
— Гос-споди…
— А ты не слыхала?!
— Говорили ребята — не верилось.
— Ой, Ксюша…
— А немца-то кто?
— А кто ж его знает. Болтают, не по любви ли: он вроде девку какую-то обратал… Да я не верю: тут бы уж нашли они концы, докопались бы.
Ксения вздохнула:
— Кому что…
— Вот правда, Ксюш.
— Ну пусть и так, — Ксения прислушалась к шороху в запечье, — а эти-то десять при чем? А семьи-то их?
— А вот так. Такой закон объявлен: за каждого убитого такой расчет… Я тебе принесу бумажку, на базаре висят.
— Ай, Нюра! — Ксения махнула рукой и направилась к сундуку в углу кухни, на дне которого под замком хранился выпеченный хлеб. Она отделила Нюрочке другую ковригу, взяв какую поменьше, себе оставалось две целых и две половинки: подгорелая, что плохо сошла с лопаты и прилепилась к своду, от нее резала круговые скибки ребятам, и та, что оставалась от Лининой, отложенной в сторону доли. Нюрочка смотрела, как перекладывала она таявшее на глазах богатство, не останавливала, ничего не говорила, завернула хлеб в тряпицу, уложила за пазуху под грудь, стянула натуго полы домошитого ватника и заторопилась домой, где ждали убитые слезным Костькиным рассказом об отнятом хлебе две дочки да малый — все, еще не ходившие в школу.
А Ксения потопала к Лине. Долго стучалась и в дверь, и в замутненное морозом крайнее окно — остальные были закрыты ставнями; прильнув к стеклу, попыталась разглядеть, есть ли кто на кухне. Наконец услышала тугое шарканье — в коридор вышла Лина. Она открыла дверь, и, увидев Ксению, обессиленно опустила руки. Беззвучно затряслись губы, вытеснились прикрытыми веками и упали вниз быстрые слезы, Лина уткнулась Ксении в плечо.
В сумеречье большой комнаты Ксения огляделась, в углу не было привычной горки, где Лина хранила обеденную посуду и скатерти со стола.
— Сожгла-а? — жалея, обернулась она к хозяйке. Горка была старинная, резная.
— М-м-м!.. — Лина, утирая глаза, покачала неприбранной головой. — Личихе уступила, — она требухи принесла, ливеру с бойни. Егор все достает — он же там в охране… По кантырю вешали…
— Уступила… — Ксения вздохнула.
— А на кой она мне? Дерево… — Лина вяло махнула тяжелой рукой и двинулась в другую комнату — малую, с одним окном, где раньше, отделенные от родителей переборкой, на сундуке и широкой койке спали дети. Теперь все они, вместе с матерью, согревали друг друга, умещаясь на одной кровати.
Лина дважды приносила двойняшек — ходом, без заметного перерыва, — и все ее потомство выглядело одногодками. Закутанные головы, торчащие из-под старого стеганого одеяла, были одинаково повернуты к двери, внимательные глаза вцепились в Ксению, как крючки. В полутьме было трудно различить лица.
— Закрыла я, — кивнула Лина на ставни, — все теплей.
— Смеркнется, Костька принесет тебе пару полешек, — отозвалась Ксения, — протопишь хоть чуть.
— Я видала, как тебе с машины дрова сгружали, — без обиды, но как-то бесцветно проговорила Лина, с трудом преодолевая одышку. — А мне где взять? Все тубаретки, лавку сожгла — таган ставила. Теперь ставни разве… Таган нужен, хоть воду согреть…
— Дак постояльцы… — Ксения будто вину с себя снимала. — Топят, и мы греемся… Но следят, рыжий каждую чурку примечает. — Она полезла в старую клеенчатую сумку и неверной рукой извлекла оттуда завернутое в марлю полукружье хлеба. — А я вам вот что выделила, решилась сама поставить да спечь. Лепешками хотела, да потом решила как выгодней… раздели вот…
Лина грузно опустилась на койку, силясь удержать застлавшие взор слезы и яснее увидеть то, что так знакомо легло в дрожащие ладони. Она услышала, как подобрались, притаили дыхание ее терпеливые дети, как они стиснули раскаленными глазами краюху в ее руках, и просипела, боясь собственного голоса:
— Ксюша, Ксюша… Я тебе отдам, ей-богу отдам… Вот баушка от сестры вернется из деревни… Пошла она, да больно далеко идти, два дня хватит ли… Но я отдам, Ксюша, господи!..
Прижимая хлеб к груди, Лина захватила свободной рукой мокрые щеки.
13
Вечерами свет давала коптилка, горевшая для того, чтобы справиться с делами, всю долгую темную пору сидели часто без огня, привыкнув обходиться в потемках. Через узкую щель под дверью в кухню проникал бледный свет карбидного фонаря, которым пользовались немцы, в ней привыкший глаз различал все. В коптилке на комоде — он теперь стоял в тесном запечье — горел бензин с солью, всыпанной для ровного горенья. Без соли бензин вспыхивал весь разом, в любой мигалке.