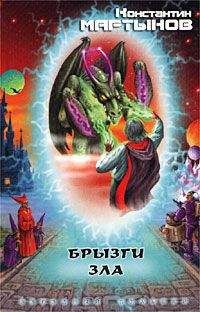— Геннадий. По фамилии Карпухин. Вам нравится?
— Карпухин так Карпухин, фамилии мы себе не выбираем, они у нас от отцов.
— Верно! Так какую же вам родитель фамилию подарил? И имя, если не секрет?
— Отца моего Атабаем зовут. Значит, я Атабаев. А имя, хоть я и туркмен, у меня русское. Григорий Атабаев.
— Очень приятно, товарищ Григорий Атабаев, — весело сказал Карпухин и начал представлять ему каждого из нас.
Солдат слушал, казалось, внимательно, но лицо его, наполовину скрытое капюшоном, оставалось ко всему безучастным, не выражало никаких эмоций по поводу знакомства.
— Вы бы нам товарища капитана представили. Он кто? — полюбопытствовал Карпухин.
— Командир первой роты. Ермашенко его фамилия, — почему-то не очень охотно сказал Атабаев.
— А вы кто?
— Солдат.
— Милый, разве мы не видим, что вы не генерал-полковник? По должности кем будете?
— Наводчиком в экипаже.
— А скажите, товарищ Григорий Атабаев, вы с поляками встречались? — не унимался Генка. — Мы вот уж две недели здесь, а ни одного поляка не видели. И ни одной польки, между прочим, тоже.
— Ты что, встречаться сюда приехал? — сердито сказал Атабаев.
— Отчего ж и не встретиться… — Генке явно хотелось направить разговор на «легкие» темы, но, поняв, что подобного желания у собеседника не предвидится, обиженно умолк. Только когда машина свернула с бетона на лесной проселок, изрядно раскисший от дождей, Генка, пересилив себя, снова обратился к Атабаеву:
— Приехали? Да?
— Считай приехали.
И в самом деле, за поворотом показался полосатый шлагбаум, похожий на деревенский колодезный журавель, высокий забор из бетонных плит. За ним виднелись красные островерхие черепичные крыши казарм. Приехали!
В Бресте на последние советские деньги, которыми мы с Генкой располагали, были куплены три одинаковых портсигара — по одному себе, а третий — будущему другу, с которым познакомимся на новом месте, три зажигалки (с тем же самым назначением, что и портсигары) и одна большущая общая тетрадь в коленкоровой обложке. Для меня. Так решил Генка. «Старик, ни дня без строчки. Пока в тетрадку, а потом, чем черт не шутит, в собрание сочинений. В завершающий том».
Мы выехали из Бреста вечером. Всю ночь вагон подбрасывало из стороны в сторону, трясло: колея на польских дорогах уже нашей, а паровозы стараются не отставать от современных скоростей. После пограничного и таможенного контроля ребята улеглись спать. А я при тусклом свете настольной лампы мучился над первыми страницами дневника. Впечатлений дорога оставила немало. Особенно Брест. Мы пробыли там целый день. И большую часть дня провели в Брестской крепости.
Год назад я читал об открытии мемориала, видел фотографии. И, признаться, те газетные снимки меня не тронули. Но, встретившись со всем этим теперь, на том месте, где все это происходило летом сорок первого года, где люди под пулями и снарядами, истекая кровью, царапали штыком «Прощай, Родина, умираю, но не сдаюсь!», я вдруг отчетливо понял, что значит быть советским солдатом.
Мы стояли с Генкой возле скульптурной композиции «Жажда». Красноармеец с каской в руке ползет к воде. Там, в казематах, его товарищи из последних сил ведут бой. У них нет ни пищи, ни медикаментов. Но без них еще можно жить и бороться. Без воды — нельзя. Без воды умолкают станковые пулеметы. Вода нужна раненым бойцам. И под ураганным огнем врага смельчаки ползут к реке. Этот, что рядом с нами, не дополз. Застыл навечно, изваянный из камня, чтобы и через сотни лет поведать людям о великом мужестве героического гарнизона.
Я не спал всю ночь, стараясь найти те слова, которыми можно было бы выразить чувства, охватившие меня в крепости. Блеклое пламя Вечного огня. Огромная голова солдата, поднявшегося над руинами непокоренной врагом крепости. Четырехгранный стометровый штык, похожий на исполинскую ракету. Просторный зеленый ковер газона перед Звездными воротами крепости, усеянный красными розами, будто солдатская плащ-палатка, забрызганная кровью. Утром в вагоне я показал написанное Генке. Он быстро прочел, захлопнул тетрадь и отдал обратно.
— Не понравилось? Не так написал?
Карпухин сразу ничего не ответил, чему нельзя было не удивиться.
— Собирай манатки, старик. Судя по времени, подъезжаем.
— Что насчет дневника посоветуешь? Писать или бросить?
— А я уже тебе советовал. Учись, брат, у маститых. Ни дня без строчки! Понял? Ни одного дня. А «плащ-палатка, забрызганная кровью» — это почище твоей «тополиной замети».
— Значит, понравилось?
— Слухай, Валера, для кого мы такую объемную тетрадку покупали? Для меня? Мне она вроде гудка на бане. Ни к чему, то есть. Ясно? Это твоя тетрадка, и чтоб ты каждый день ее пополнял. Договорились?
С той ночи я ни разу еще не раскрыл тетради. Сегодня, по приезде в гвардейский танковый полк, мне почему-то очень захотелось последовать Генкиному совету.
После беседы в штабе полка нас распределили по ротам, и капитан Ермашенко приказал Атабаеву отвести меня, Генку и Серегу Шершня в первую танковую роту… Сокирянский-то как в воду глядел.
— Поздравляю вас, ефрейтор Климов, и вас, ефрейтор Шершень, с повышением. — Генка на манер испанского гранда из фильмов на средневековые сюжеты сделал замысловатые пассы фуражкой с поклонами и пристукиваниями. — Служили во второй непромокаемой, теперь вот в первую выбились. В головную!
Атабаев смотрел на Генкину выходку все тем же подозрительным взглядом и не проронил ни слова.
— Ведите, товарищ Григорий Атабаев, в первую танковую. Исполняйте приказ товарища капитана.
— А ты, похоже, из веселых, Геннадий Карпухин, — с непонятной недружелюбностью сказал Атабаев.
— Таким мама родила, — не обращая внимания на атабаевский тон, ответил Генка и, подхватив под мышку черный лакированный футляр со скрипкой, скомандовал: — Вперед!
Не знали мы еще, что за человек этот Атабаев…
Первая танковая рота, как сказал нам по дороге в казарму Атабаев, три дня назад выехала на полигон, но здесь, в расположении, находится старшина, который специально приехал, чтобы принять пополнение. (Мы — пополнение!)
— Топайте на второй этаж, первая дверь направо, там должно быть открыто, а я к старшине домой сбегаю.
Атабаев ушел. Мы, предоставленные самим себе, поднялись по железным ступеням широченной лестницы наверх. Дверь с табличкой «Спальное помещение 1 ТР» была действительно не закрыта. В помещении в два ряда, вдоль высоких и потому, наверное, показавшихся очень узкими окон, выстроились аккуратно заправленные темно-зелеными одеялами кровати. Между рядами оставался широкий проход, сверкавший натертым до желтого блеска паркетом. В обоих его концах, у входа и у глухой стены, возвышались выложенные изразцовой плиткой печки.
— Вот мы и дома, старики, — сказал Генка, освобождая одной рукой плечи от лямки вещмешка. — Как говорится, располагайтесь. До прихода товарища старшины.
И тут мы заметили, что не одни в спальном помещении. Из-за дальней печки вышел довольно пожилой, совсем лысый мужчина в комбинезоне, с мастерком в руках и направился к нам.
— Кто такие? Пополнение? — осведомился он, подходя поближе.
— А вы, извините, по печному? — в свою очередь спросил Карпухин.
— И по печному тоже.
— Это приятно. Непыльно, а прибыльно. Дымят, что ли?
— Вроде бы такого не было. А подмазать не грех. Как-никак отопительный сезон скоро.
— А вы что, на должности истопника служите? — продолжал любопытствовать Генка.
— Должностей, сынок, у меня много. И истопником, бывает, приходится, — уклончиво ответил лысый.
У него грустные, добрые глаза, крепкие, в морщинках руки. Из-под расстегнутого, выпачканного глиной и известью комбинезона выглядывает полосатая тельняшка.
— На море служить довелось? — спросил Карпухин.
— По тельняшке определил? — Лысый запахнул комбинезон. — На море не служил. А в морской пехоте всю войну прошел. Сапером, подрывником был…
— А сейчас по печному? Вольнонаемный, что ли?
— Случается и по печному.
Влетел запыхавшийся Атабаев. И строевым к лысому.
— Товарищ гвардии старшина, пополнение в составе трех человек прибыло.
— Сам вижу — прибыло. Капитан Ермашенко где?
— В штабе. Капитан передал, чтоб вы приняли новичков и все вместе — на полигон.
— Понятно. Ну-ка, товарищ Атабаев, к военторгу на одной ноге, от них машина на полигон должна пойти. — Сказав нам, что через пару минут вернется, старшина вышел вслед за Атабаевым.
— Вот тебе и по печному делу, — развел руками Генка. — Не знаешь, где влипнешь.
— С твоим языком — где угодно, — заметил я. — Почему-то мы с Шершнем помалкивали, а тебе хоть заслонку в горло ставь. Погоди, он тебе истопника еще вспомнит.