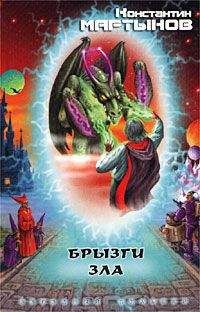Высокий, стройный, он, сорвав с головы танкошлем, коротко бросил:
— Разойдись! Можно курить…
Опять пошел дождь. Сколько ж действительно этой жидкости скопилось на небесах! И почему-то вся она предназначалась нашему полигону, нашему военному городку. Сизый сигаретный дым прибивался дождем к земле. Мы, сгрудившись под ветвистыми грабами, продолжали начатый капитаном разговор о только что отгремевшем бое. Подошел Генка.
— Ну как, старик, согрелся?
— Да не замерз.
— То-то. Предвижу, что материалу для солдатской газеты в гвардейской танковой роте будет не меньше, чем в учебной. Дерзай, писатель.
— У тебя другого разговора нет?
— Не будьте снобом, Климов. Это вам не к лицу. Вы что, не видели, как капитан вел танк?
— Сам? За рычагами?
— А ты думал? Пересадил механика на свое место и — аллюр три креста. С таким, брат, ни в одном бою не пропадешь. Школа, видать, будь здоров! — На манер ротного Генка лихо сдвинул на затылок танкошлем. — Пошли Серегу навестим.
Шершень, привалившись к корме своего танка, уткнулся в газету.
— Просвещаешься, брат Серега? — окликнул его Карпухин. — Что нового-то пишут?
Шершень свернул газету и спрятал ее в карман куртки.
— Все новое. Читать только некогда. Как в той песне: «Все ученья да ранний подъем…»
— С экипажем-то поладил?
— Поладил, да не совсем…
— Как понимать прикажешь?
— А так. Атабаев проходу не дает. Кроме как салагой не называет. А вчера вечером, когда на ночлег устраивались, отвел в сторонку и говорит: ты мне, мол, обязан бритву свою механическую в подарок преподнести. В знак знакомства. И ремнями должен со мной поменяться. Тебе еще, мол, как медному котелку, служить, а у меня, говорит, дембель на носу.
— Так и говорит?
— Так и говорит.
— А ты про него командиру доложил?
— Неудобно.
— Ему вымогать удобно, а тебе вывести вымогателя на чистую воду неудобно! А ну-ка я сам с ним поговорю.
— Не надо, Гена. Я дал слово молчать, — признался Шершень.
— Пижон! Не он — ты пижон, Шершень. Да за такие проделки на бюро его, на комсомольское собрание тащить надо. И ротному обо всем рассказать…
— Погоди, Генка, кашу заваривать. Может, это просто розыгрыш. Неумный, но розыгрыш, — вмешался я.
— Ничего себе розыгрыш. Твоего товарища салагой зовут, вещи у него вымогают, а тебе все прикрыть хочется. Шито-крыто, на тормозах? Да?
— Да не кипятись ты понапрасну. Слова еще не дела.
— Ну ладно. Только ты, Шершень, не будь тряпкой. Смотри не вздумай ничего ему отдавать. Понял? Чуть что — ко мне! Ясно? А я-то знаю, как поступить. Ладно?
— Да что я, маленький? — Шершень полез в карман за газетой.
По дороге с высотки в нашу сторону спускалась транспортная машина с кухней на прицепе. Наступало время «Ч» для старшины Николаева. Хлюпая раскисшими сапогами, мы пошли к своему взводу.
— Держи хвост морковкой, Шершень! — выкрикнул Генка товарищу. — Донесения — голубиной почтой! Приятного аппетита!
«Дорогие мама и папа!
Теперь я могу вам сообщить свой постоянный адрес. Пишите. У меня все хорошо. У Гены тоже. Мы в одной роте и в одном взводе. Успели побывать на учениях. Интересно! А больше пока нигде не были. Товарищи во взводе и в экипаже встретили хорошо. Вместе со мной в танке наводчик — Федор Смолятко. Белорус, из Минска. Если холодильник хорошо работает, так знайте, это потому, что его Федя собирал, он трудился на МЗХ. Заряжающий — Иван Андронов. Парень простой и уважительный. Учитель истории. Космонавту Николаеву земляком и даже вроде бы дальним родственником по материнской линии приходится. А командир у нас Селезнев по фамилии. Старший сержант, а за глаза его все называют просто Сашей. Он самый высокий и сильный во всей роте. Из Ростовской области, из города Шахты. А там, как вы знаете, силачей не перечесть. Вот вы и познакомились со всеми моими товарищами, которые шлют вам свой гвардейский привет. От меня привет тете Лене и Алексею Ивановичу.
Валера».
Никаких увольнений в предвыходные и выходные у нас не бывает. Потому что некуда ходить в увольнение. Не в городе живем — в лесу. Но с разрешения ротного в свободное от службы время в воскресенье можно организованно сходить по грибы, по ягоды, благо лес рядом — с трех сторон подступает к самому забору. Для любителей рыбалки не заказан путь на речку Куницу. До нее тоже рукой подать. Сразу за забором, с южной стороны, начинается широкая речная пойма. И почти посередине ее в обрамлении кустистых плакучих ив протекает Куница. Я поначалу решил, что это наше русское название, употребляемое только в гарнизоне. Оказывается — нет, так речку зовут поляки. И хотя ничего другого, кроме пескарей, никому за всю историю полка в Кунице поймать не удавалось, ряды любителей рыбалки не редели. Мы с Генкой, как истинные волгари, знавшие всяческие россказни про уху стерляжью, тройную, чесночную, с перцем, и прочие рыбацкие варева, от одних баек про которые начинается слюноотделение, естественно, примкнули к отряду рыбаков.
В воскресенье, наскоро смастерив нехитрые приспособления, вполне похожие на удочки, мы, с разрешения капитана Ермашенко, отправились на Куницу. В обычное время, говорят, она совсем тихая и мелководная: воробью по колено. А сейчас вспухла от дождей, того и гляди, выплеснет мутные воды из берегов.
Дождь лил всю ночь, а к завтраку тучи поднялись. Посветлело. С ив, слегка тронутых охрой, стекала капель. Мы прошли вверх по течению, подыскивая местечко поуютней, и наткнулись на старшину Николаева. Он застыл в позе перовского рыболова над речкой и, казалось, совершенно ничего не замечал, кроме нырявшего в мелких воронках поплавка своей удочки.
— Клюет, товарищ гвардии старшина? — вежливо осведомился Генка.
— А как же! — Николаев выпрямился и повернулся в нашу сторону.
— Много поймали?
— Сказать много — не поверите, мало — чего доброго, на смех старика поднимете, — с усмешкой проговорил старшина. — Лучше скажу откровенно — ничего не поймал.
— А говорите, клюет…
— Клюет, точно. Располагайтесь рядком, убедитесь: клев хороший.
Дальше идти не имело смысла: Николаев первый в роте рыбак, на плохое место не сядет, так что от добра добра не ищут. Через минуту рядом со старшинским поплавком закружились на водяных воронках и наши.
— Ловись, рыбка, большая и маленькая, чаще большая, реже маленькая, — скороговоркой, как рыбацкую молитву, проговорил Генка, усаживаясь на корточки рядом со старшиной.
— Не желаете закурить, товарищ гвардии старшина? — Я протянул Николаеву свой портсигар. Он взял его, повертел в руках.
— Московский?
— Московский. В Бресте покупали.
— То-то я вижу — знакомые высотные дома изображены. Вроде бы на проспекте Калинина такие, где Военторг.
— Так точно.
Он возвратил портсигар, не раскрыв его.
— В жизни не курил. И другим никогда не советовал. Баловство. В войну, когда подрывным делом пришлось заниматься, кисет с табачком всегда при себе имел. Самокрутки вертеть здорово приладился. Так то ж для дела: цигаркой шнур удобно поджигать. Тыщу раз, наверно, держал в зубах цигарку, а курить не научился. Баловство! — Он скосил взгляд на поплавок и тотчас же стремительно, резко рванул на себя удочку. Крючок был пуст.
— Сорвалась, окаянная, — огорчился старшина. — Вы глядите за поплавками, клев-то, без трепу, начался…
Но клев не начинался. Первым это понял сам старшина Николаев.
— И-эх, горе луковое… — вздохнул он, выпрямляясь. — Нешто это рыбалка? Просто, уж если начистоту, деться некуда. Был бы дома — махнул бы дня на два куда-нибудь на старицы под Сызрань.
— Нету там стариц, товарищ гвардии старшина, Саратовским морем все залило, — подсказал Генка.
— Видел… Сам сызранский. Да все на пору своей юности отвожу стрелки… Вот уж порыбачил, было времечко. Помню, перед войной — я тогда на мельнице работал грузчиком…
Что было у старшины перед войной, мы не узнали.
На берегу появилась одинокая человеческая фигура, и старшина, приложив ладонь к бровям, словно Илья Муромец на васнецовском полотне, устремил свой взгляд на приближавшегося к нам человека.
— Не узнаю, ей-богу, не узнаю… — бормотал он себе под нос. — Похоже, с удочками… Рыбак… Не из наших.
Рыбак подходил все ближе. Это был молодой парень, не старше нас с Генкой.
— Батюшки-светы! — воскликнул Николаев. — Никак, Петро? Петро и есть…
Генка, как гусь, вытянул шею.
— Дзень добры, Пёште! — старшина встал.
Парень бегом бросился к нему и повис у него на шее.
— Какими судьбами, Петро? Совсем или на побывку?
— Сейчас я в отпуске, Николай Николаевич!