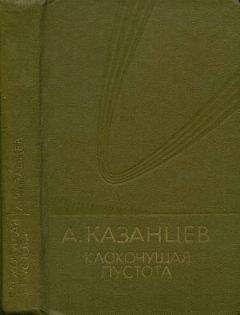Дня через два осторожно открывается дверь моего барака и как-то боком, застенчиво улыбаясь, входит фигура — шинель без хлястика, застегнутая через пуговицу, на голове не то кепи, не то очень помятая фуражка. За фигурой, остановившись в дверях, солдат-конвоир.
— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Я, вот, книжечки принес обратно, что вы послали, — говорит посетитель. — Так мы сегодня спросили офицера, чтобы самим пойти да побольше, если можно, взять — те, что вы дали, прочитали уже.
— Чего ж, можно, можно, — отвечаю я. — А вы присаживайтесь.
— Да я, знаете… — косится он в сторону конвоира, все так же застенчиво улыбаясь.
— А он ничего, подождет…
Солдат с. недовольным и несколько удивленным лицом прислоняется к косяку двери и начинает с подчеркнуто скучающим видом рассматривать потолок.
Закуриваем все трое. Мой гость не курит, а священнодействует:
— Ох, голова закружилась, давно не курил.
Помолчали. Разговор завязывается не сразу, хотя посетитель, по-видимому, словоохотлив, а для меня его приход большое событие.
— Книжки хорошие, да уж маленькие больно. Вы нам чего-нибудь потолще дайте.
— Можно, можно. Сейчас выберем.
Помолчали опять. Гость присаживается на кончик стула. Я начинаю просматривать сваленную в углу груду книг.
— А вы, что же, из эмигрантов будете?.. Давно, значит, на родине не бывали?
— Да вот, уж скоро двадцать лет.
— Так, так… Плохо там, ой, как плохо.
— Да я уж слышал.
— Ну, а по профессии вы кто же будете?
— Журналист.
— Пишете, стало быть?
— Не без того. Но вот сейчас больше читаю.
— Так, так. Мы, стало быть, с вами вроде как коллеги…
— Вот как? Вы тоже журналист?
— Да нет, какой там, токарь я, по металлу. Вот сейчас только этим делом занялся, писательским-то. Да и то тоже больше читаю, чем пишу. — Как же так, что же вы читаете? Оказывается, в отделе пропаганды верховного командования армии организована маленькая испытательная лаборатория. Из числа военнопленных какого-то лагеря около Берлина отобрано несколько человек разных профессий, специальностей, интеллектуального уровня и возраста. Изданные на фронте для отправки на ту сторону листовки даются им на просмотр и критику.
— Много ерунды пишут, конечно, ну, а про большевизм, впрочем, довольно верно, — заключает мой собеседник.
Из дальнейшего разговора выясняется, что среди заключенных есть колхозники, рабочие — «вот, как я, например», — есть и интеллигенты. Среди них заинтересовал меня больше всего какой-то профессор — «он, знаете, с утра до вечера что-то сам пишет», — и прибывший совсем недавно капитан-танкист.
Беседа наша затянулась. Недреманный страж показывает явное нетерпение. Переступает с ноги на ногу и выразительно кашляет в паузах между репликами.
— Ну, я пойду, — встает гость. — А то, вот, конвойный-то мой вроде как торопится. За книжечки спасибо. Только вы нам в следующий раз чего-нибудь поинтереснее отберите. О том вот, как другие живут… — Хорошо, хорошо, постараюсь. А вы заходите почаще. — Да, уж мы зайдем.
С тех пор визиты стали довольно частыми. Режим стал у них, по-видимому, мягче: конвойный приводит, оставляет и сам уходит по своим делам, а через час, иногда и больше, возвращается за своим подопечным. Приходит и профессор, оказавшийся старым педагогом, довольно пожилым и интеллигентнейшим человеком. Раза два был и капитан, интеллигент уже советской формации, четыре года просидевший в концлагере по «делу Тухачевского». Приходят и поодиночке, и по Двое-трое сразу. Разговоры становятся все интереснее и задушевнее. Из этих разговоров я вижу, что мои посетители часто говорят между собой обо мне, о «чудаке-эмигранте», который так же, как и они, относится к большевизму, но кажется, и немцев «что-то недолюбливает», как определил мои настроения мой первый знакомый, токарь по металлу.
Всех этих людей объединяет одно — непримиримая и бескомпромиссная ненависть к большевизму. Отличает их друг от друга только разное отношение к немцам.
Колхозники формулируют свое отношение просто:
— Хуже большевиков — немец все равно не будет. Главное, чтоб землю народу дали, а там уж заживем…
Токарь по металлу настроен не менее примирительно: — Немец, он человек аккуратный, обстоятельный. У него поучиться можно. Ну, конечно, дурь ему сейчас немножко в голову ударила, да потом пройдет: опять же и понять надо — время военное, нужно злым быть, а то войну проиграет.
Категоричнее всех высказывает свое мнение капитан:
— Сволочи они, дорогой мой, и нацисты, и коммунисты. Коммунисты больше, нацисты немного меньше, а вообще одно и то же, и те и другие. И давить их надо, как чумных крыс, тоже одинаково.
— Кто же возьмет, капитан, на себя такую серьезную операцию?
— Вот тут-то гвоздь и забит. Некому! Нужно было бы нам, русским, народу, да силенок у нас нет. Вот в чем дело. Понятно?
Кстати, капитан никакого отношения к заговору Тухачевского не имел. Взяли его, как брали десятки тысяч других офицеров. Посадили в тюрьму, на допросах до полусмерти избивали несколько раз. Выбили зубы, сломали три ребра и, не добившись признания, то есть формального основания для расстрела, посадили его на 10 лет в концлагерь.
В первые дни войны их, целую партию офицеров, сидевших пс тому же «делу Тухачевского» и не имевших к нему, как и он, никакого отношения, привезли в Москву.
— Приводят в комнату. Сидит, знаете, эдакая наглая скотина, глаза щурит, камнем на пальце поигрывает. Вкрадчивым голосом начинает мне объяснять, что вот, дескать, родина в опасности, что все мы должны встать на ее защиту, а потом уж, после войны, разберемся, кто прав, кто виноват. Выходит, по его словам, что я как будто бы не виноват, вот и партия и правительство оказывают мне такое доверие. Дает понять, что к аресту моему приложили, конечно, руку и «враги народа»… Человек я, знаете, злой, но отходчивый. Выхожу оттуда, в голове мысли вихрем, — а может быть, и действительно так. Ну, думаю, потом разберемся, а сейчас надо немцев бить, если лезут. На следующий день получил путевку и айда на фронт, в штаб дивизии.
Но недолго воевал капитан.
— Приставили ко мне какого-то сукиного сына — лезет во все, путается, за каждым шагом следит. Вижу — не верят, стало быть, мне. Обидно мне стало, трудно вам сказать как. Утешаю себя, — ничего, поверят. Тоже и люди есть разные, есть и такие, за которыми и действительно следить нужно… Скоро попали мы в окружение, читали, наверное, Минское, много народу тогда немцы побили, еще больше отрезали… Бродим мы по лесу, ищем, как бы пробраться к своим. Восстановили связь со штабом армии — рацию с собой таскаем. Правда, больше особый отдел по ней со своим начальством разговаривает. Надежды у нас появились, скоро, может быть выберемся. Нервы, знаете, напряжены до отказа, не спим несколько ночей, все мысли в одной точке — как бы пробиться. И вдруг ночью, можете себе представить, арестовывают меня… Я задремал перед этим, и было все это так неожиданно, что даже не сопротивлялся. Навалилось их трое, связали по рукам и ногам, караул приставили. Слышу, говорят между собой — ночью самолет прилетит, в Москву меня приказано доставить… Лежу, знаете, я связанный и плачу, слез удержать не могу от обиды, от горечи, от злости, от сознания глупости нашей и еще от чего-то, не знаю… С отправкой в Москву у них ничего не вышло. На рассвете, как с неба, свалились на нас немцы. Тот молодчик, что следил за мной все время, дал в меня очередь из автомата, приказ, наверное, у него такой был, да промахнулся, пробил только ногу в двух местах. Тут же его какой-то фриц и прикончил. А меня так, связанным, готовеньким и взяли в плен.
Самой оригинальной была встреча с пришедшим в первый раз профессором. Он влетел, как будто им выстрелили из пушки. Сунул руку и, опускаясь на стул, простонал:
— Скажите, вы их больше знаете, они что — идиоты? Я стараюсь попасть ему в тон:
— Я их знаю столько же, как и вы, и если мы с вами говорим о руководстве Германии, то, по-моему, да.
Профессор вскакивает со стула и, быстрыми шагами бегая около стола, кричит:
— Ведь они же делают преступление, ну, наплевать перед нами, перед нашим народом, но и ведь перед своим точно так же. Ведь вы понимаете, к чему это клонится — они спасают большевизм, они помогают ему выиграть войну, они отдадут ему не только нас, наш народ опять в рабство, но и свой, весь мир отдадут. Вы понимаете?
Я профессора понимаю очень хорошо. Дело, действительно, клонится к этому. Мне нужно только рассказать ему, что докладные записки, которые он пишет с утра до вечера и которыми старается кому-то открыть глаза, предупредить, объяснить всю гибельность для антибольшевизма ведущейся на востоке немецкой политики, гибельность для русского народа, для Германии, может быть, для всего мира, — эти записки не дадут, вероятно, никаких результатов…