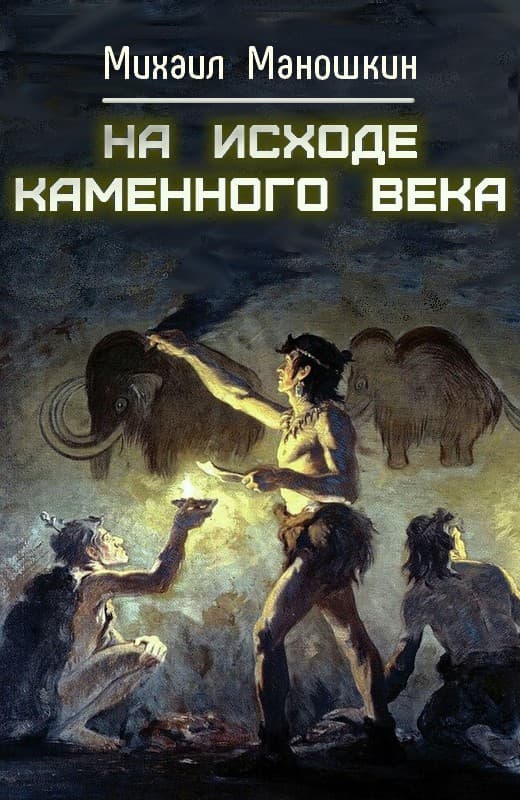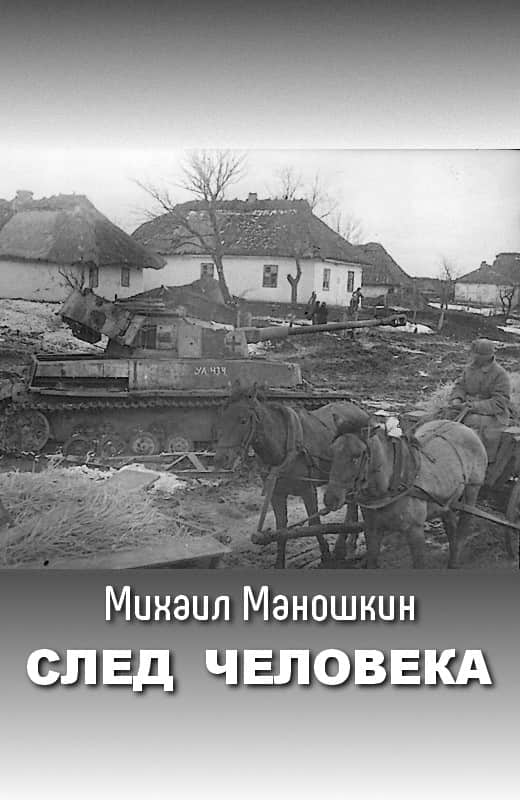невоенной работой и, чуть склонив набок голову, щелочками глаз разглядывал ровный дратвенный шов.
— Будешь ходить во какой! — он поднял руку ладонью вниз. — Моя работа — хороший работа!
Люся надела валенки, как надевают только что купленные туфельки, а Сафин, глядя на нее, смеялся круглыми ямочками на щеках.
— Шапка могу шить, шуба шить, дом строить могу, печка могу!
— А у самого шуба с дыркой, — лукаво поддразнила Люся. Ей было легко и весело с этим смешным татарином.
— Фриц делал. Низ ничего, тепло верх, верх дырка нет, — Сафин сам захохотал над своей шуткой. — Память будет!
Вечером мать встретила бойцов у порога. Первым вошел небритый, за ним курносый, потом показался старший сержант и закрыл за собой дверь. Они опять оттаивали у печки, а мать ждала четвертого, но больше никого не было. Она вопросительно взглянула на старшего сержанта.
— Ранен Устюков, мать.
— Как же это, сынок?
— Мина.
Ночью старший сержант выходил последним:
— Не стой на ветру, мать. Простудишься.
У нее тревожно заныло сердце.
Сафин тоже ушел, и, оставшись в опустевшей избе, мать готова была кричать от боли за этих незнакомых и близких ей людей. Теперь она со страхом ждала вторую смену, и она облегченно вздохнула, когда явились все четверо. Она торопливо поставила на стол картошку с огурцами и смотрела, как они ели.
На рассвете Сафин не вернулся.
— Он-то где? — забеспокоилась мать, поглядывая с крыльца. По улице проехала кухня, прошло несколько бойцов. Сафина не было.
Днем мать напоила лошадей, дала им клеверу. А когда стемнело, она услышала во дворе голоса. Вошли небритый и старший сержант. За ними, притворив за собой дверь, показались еще двое, из второй смены.
— А. татарин?
— Убит, мамаш.
— Как… убит?
— Пулей.
Она стояла и не понимала, как это так — убит. Разве можно убивать человека? Это ошибка какая-то! Он вот недавно чай пил из алюминиевой кружки и валенки подшивал…
— Сынок, как же это?..
Но старший сержант ничего больше не сказал. Он сидел, сгорбившись у печки, и растирал руки.
— Ну, согрелись? Пошли. Спасибо, мать, за тепло и приют. Живи сто лет.
Она в недоумении смотрела на них, она заглядывала в лицо каждому, но они все равно ушли, оставив ее у порога.
Она слышала, как заскрипели ворота, как выводили со двора лошадей, как затихали вдали шаги бойцов.
В избе стало пусто и тоскливо. На печи, уткнувшись лицом в подушку, приглушенно всхлипывала Люся. Мать подошла ближе, прижала к груди голову дочери, и девочка больше не сдерживала себя.
А утром, выйдя к корове, мать долго стояла около клевера. За деревней больше не громыхало. Война откатилась вдаль.
— Здорово, мамаш!
Мать вздрогнула и оглянулась на голос. Перед ней, постукивая булыжниками валенок, стоял высокий худой боец лет сорока пяти. С кончика носа у него свисала капля. Он смахнул ее заиндевелой, похожей на боксерскую перчатку рукавицей.
— Заведу лошадь, а?
— Заводи.
Во двор въехали сани, нагруженные деревянными ящиками. Боец развернул лошадь, начал распрягать.
— Клеверку не дашь?
— Бери. Пойду печку затоплю.
Мать пошла к выходу, и ей было уже не так одиноко.
Взвод старшего сержанта Крылова уходил дальше на запад. Оттепели чередовались с заморозками, но дыхание близкой весны крепло с каждым днем. Пехота уже была обута в сапоги.
Смерть Сафина камнем легла на Крылова, хотя он не был виноват в ней. Смерть ни с кем не считается, но Сафин будто стоял вне ее воздействия: он больше года шагал возле орудия, от самого Ельца.
Ездовым вместо Сафина комбат прислал пехотинца лет пятидесяти. Оба взводных расчета сидели вокруг костра. Дядек, не снимая из-за спины винтовки, казавшейся непомерно длинной на его щуплой фигурке, протиснулся к огню, снял рукавицы, сунул за небрежно надетый ремень, начал отогревать руки. Посиневший хрящеватый нос придавал его лицу выражение какого-то отчаянного любопытства.
— Эй, дедок, ты откуда такой прилетел? — поинтересовался Камзолов, подкладывая в огонь хворост. — За постой деньги берут. Дрындулет-то убери, глаз выбьешь! — он покосился на винтовочный ствол, угрожающе нацеленный ему в висок.
— Ты ее, папаш, прикладом в костер сунь — покороче будет, — посоветовал Мисюра, привычно гася кончиком пальца задымившуюся рукавицу. Он аккуратно плевал на палец и не спеша прикладывал его к расширяющейся дымной дырочке.
— Зашалавил, — каким-то особенным баритоном проговорил дядек, повернувшись к Мисюре и едва не выбив Камзолову глаз.
Камзолов вспыхнул, как порох, и вряд ли обошлось бы без скандала местного значения, будь у Камзолова побольше пространства для маневра. Но пространства как раз и не доставало, а винтовочный ствол по-прежнему нацеливался ему в висок, поэтому Камзолов ограничился словесным выпадом.
— Отойди от костра-то — соплями погасишь!
— Ишь какой прыткий, — невозмутимо ответил дядек, вытирая пальцем нос. — Мне тоже огонь нужон.
Его тон был настолько оригинален и смешон, что Камзолов, в котором чувство справедливости не уступало гневу, рассмеялся.
— Винтовку-то хоть сними!
— Куда ж я ее — на тебя повешу? Я за нее расписывался.
— Ты, папаш, на лошадей положи, — посоветовал хитрюга Василь Тимофеич.
Дядек взглянул на него — Камзолов предусмотрительно опустился на корточки, — в округлых, глубоко запавших глазах вспыхнуло негодование.
— Лошадь она не человек, за ней уход нужон. А ты: на лошадь, на лошадь…
Этими словами дядек окончательно сразил сорокапятчиков и завоевал себе прочное место у костра.
— Ты кто ж такой будешь? — подсластился к нему Камзолов.
— Омелин я, к лошадям у вас приставлен, а ты все отойди да отойди.
— Не шалавишь? — засиял от удовольствия Камзолов.
— Тьфу!.. — возмущенно сплюнул Омелин. — Нешто этим шутят?
Так расчет Крылова пополнился новым ездовым. Сафин был бы доволен своей сменой: Омелин дневал и ночевал вместе с лошадьми. Его и представить себе трудно было без них. Правда, на первых порах Камзолов пытался экзаменовать Омелина:
— Ты, дедок, хомуты не забудь, когда запрягаешь!
— Я запрягал, когда тебе мама мокрый зад вытирала. А ты все…
С приходом Омелина у сорокапятчиков начали гореть огромные костры. Омелин брал себе кого-нибудь в подручные, валил несколько берез, перепиливал на чурбаки и с помощью остальных переносил к костру. Здесь он раскалывал чурбаки топором, выстраивал из поленьев пирамиду выше человеческого роста и лишь после этого считал свое дело временно сделанным. У такого костра хватало места всем.
Звали Омелина просто Омеля, но он не возражал и против Емели.
— Омеля, — бойко наскакивал на него Камзолов, — расскажи, как ты первый раз женился!
— Зашалавил. На што тебе?
Но он все-таки рассказывал, и как женился, как жил в деревне, и как