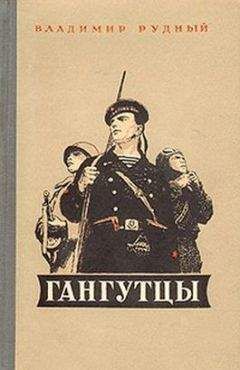— Это точно, товарищ генерал, — подхватил Репнин. — Мой сапер Сережа Думичев такое устроил. И пластинку поставил свою любимую: «Разведку»…
— Доставили мы им хлопот, лейтенант. Видите: «Разминирование передовой линии и самих укреплений отложено до весны». Нагнали на них страху, вот и трезвонят о «минерах из Ленинграда» и о «колоссальных работах, которые произвели русские на полуострове».
Статья заканчивалась следующим наблюдением корреспондента:
«На всех углах развешаны плакаты на неправильном шведском языке: „Офицеры и солдаты финской армии, довольно проливать кровь в угоду Гитлеру. Гоните фашистов с вашей земли“».
— Что же тут неправильного, товарищ генерал? — улыбнулся Репнин.
— Все правильно, лейтенант. Спасибо за подарок…
По сугробам сурового Ленинграда Репнин возвращался на Пулковские высоты, где гангутская пехота отстаивала великий, мужественный город.
Гангутцы воевали на Ленинградском фронте.
* * *
Ледяной домик на заливе занесло снегом. В нем посменно жили шестеро разведчиков из гангутского батальона. Днем домик похож на обыкновенный сугроб. Ночью разведчики вынимали из щелей в сугробе снежные кирпичи, и в амбразуры, целясь на берег, занятый врагом, смотрели пулеметы. Застава цепью располагалась справа и слева от сугроба, наблюдая за петергофским берегом. С рассветом вся застава стягивалась в ледяной домик и исчезала в нем на весь день.
Каждую ночь двое приходили из Кронштадта и двое из шестерых уходили в Кронштадт. От смены до смены на двоих на три дня — плитка шоколада и по краюшке хлеба, жесткого, блокадного хлеба.
Смена несла Гранину карты разведки.
Близок рассвет. Двое идут к берегу. Ветер и голод шатают людей. Хочется лечь на лед и уснуть.
— Оставь меня, к-омиссар. Отдохну — сам дойду…
— Нельзя, Иван Петрович. Сколько прошли, а теперь спать? Придем, водочки выпьем, корочкой разживемся. Доложимся и поспим в кубрике на славу.
— Что — в к-убрике?! Сказано — сп-ать хочу…
— Майор ждет. Другие заставы, наверно, вернулись.
— Б-рось меня. Один скорее д-ойдешь.
— Не могу, Иван Петрович. Без тебя и я не дойду. Светать начнет — немцы тебя увидят…
— Т-ы меня Гитлером не п-угай. Я М-маннергейма тоже не испугался.
— А Гитлер найдет Ивана Петровича спящим на льду и доставит в Петергоф как трофей.
— Еще не родился такой фашист, чтобы Ив-вана Петровича т-рофеем взять. К-ачает меня…
— А мы сейчас остановимся, перекурим и снова пойдем. Ну, еще несколько шагов… Держись за меня… Только не садись… В рукав закурим… Помнишь, как на Фуруэне?..
— Т-ам курево было — п-ервый сорт… Дай еще затянуться…
— Только мне оставь, а то больше нету. Вот дойдем до майора, может, отсыплет нам на завертку своего любимого «Сама садик я садила». Волнуется за нас майор: как там мои гангутцы?
— Д-дети капитана Гранина!
— Много нас под Ленинградом… Отстаивают гангутцы Ленинград!..
— Мы еще с м-айором блокаду прорывать будем…
— Будем, Иван Петрович! Наступать будем. Где-нибудь под Кенигсбергом высадимся.
— Только бы п-од командой майора Гранина!
— А может быть, и полковника Гранина. А как он переживал, когда за «языком» на перешейке ходили!
— П-омню. А кто все-таки достал «языка»? Ив-ван Петрович. Собственноручно!
— Злой ты тогда был! Сильный!
— Я и т-теперь сильный. Д-алеко еще?
— Ближе, чем до Хельсинки, Иван Петрович.
— Майор п-рикажет — и дальше п-ойдем.
— Дойдешь?
— А т-ты сомневаешься?
— А вдруг харчей не хватит? И спать захочется?
— Ядовитый ты человек, Богданыч.
— Разве? Может, отдохнем?
— Я в-от тебе отдохну!.. П-оживее шагай! Т-опай! Видишь, Кронштадт уже рядом…
— Есть шибче топать, товарищ мичман!..
Двое сквозь ветер и ночь шли к Кронштадту.
Прошли годы. Отгремели громы войны. Снова на рубежах государства, на скалах прибрежных крепостей, на носу боевых кораблей под флагом родины с оружием в руках встал впередсмотрящий.
По-разному складывалась жизнь гангутцев после войны. Одни продолжали служить. Другие вернулись в родные края к труду.
Богданыч пошел восстанавливать завод на окраине Тулы, где работал до службы.
Щербаковский отправился на торговом судне в дальнее плавание и наверняка побывает и в Албании, и в Китае, где раньше он не смог побывать, потому что «п-одходящих морей не было».
Степана Томилова назначили на Дальний Восток, на Японское море, и, покидая Южную Балтику, он с радостью извлек японский словарик, сохраненный им и на Хорсене, и на Ладоге, и в боевых балтийских походах минувших лет: пригодится наука, вынесенная из стен академии!..
Про всех не узнаешь — кто жив, кто погиб, велика наша земля, и жизнь наша бурная. Будут еще и встречи, и воспоминания:
Куда бы нас оно ни занесло,
Военное крутое ремесло,
Мы сохраним традиции гангутцев.
В прибалтийском городе, в домике военного городка, под двумя скрещенными на стене кавалерийскими клинками сидел Борис Митрофанович Гранин и разбирал груду свежих писем. Были письма избирателей — депутату городского Совета. Были письма соратников по Ленинградскому и Прибалтийскому фронтам — майору и подполковнику Гранину. Были письма капитану Гранину — от «детей капитана Гранина».
«Балтика. Капитану Гранину», — читал он короткий адрес.
— До генерала дослужишься, а все капитаном будут помнить…
Он извлек внушительный пакет: «Полковнику Гранину Б. М. — от майора Пивоварова Ф. Г.».
«Добрый день, Борис Митрофанович. — прочитал Гранин в письме своего верного друга. — Давно мы с тобой расстались, и нелегко было тебя найти, хотя я искал тебя день за днем. А накопилось у меня столько всякого, что сидеть бы нам с тобой вечерами не месяц и не два, говорить, говорить — и всего не переговорить. Много лет прошло, много воды утекло, не мало нашего брата полегло, дорого стоила нам победа, иные и подзабывать это уже стали, а я забыть не могу, не хочу, всем наказываю не забывать того, что было, что пережито, что такой большой кровью оплачено и что нас выручит из беды еще не раз.
Ты, Борис, не удивляйся, что разговорился вдруг молчаливый Федор. Как узнал твой адрес, прорвало меня. Душа полна, хочется все рассказать такому другу кровному, как ты. Ведь все равно стесняться некого: прочитаем это только мы вдвоем — ты да я. А был бы я как наш Фомин, написал бы так, чтобы все наши гангутцы, которые в живых остались, прочитали. Для всех советских людей. А главное — для молодых, которые войны не видели и революции тоже, а жить будут при коммунизме. Они должны обязательно знать, что и Толя Фетисов погиб за коммунизм, и Степа Сосунов, и Вася Камолов, и Миша Макатахин, и наш славный богатырь Сашок Богданов, — все они кровь и жизнь свою отдали за нашу жизнь, и худо бы нам пришлось, не будь у нас таких храбрых и честных парней.
Эх, Борис, годы — годами, а как вспомню я наших хорсенских ребят, так жжет мне сердце, будто свежая рана там, и дочка вон сидит напротив, уроки делает, на меня поглядывает, чувствует она мои думы, наверно, и, вижу, сама вот-вот заплачет…
Не удивляйся про дочь, нашел я свою семью живой-здоровой. Стал я теперь другим человеком, будто меня заново в люди произвели. Ну, да не буду забегать вперед, расскажу все по порядку.
Расстались мы с тобой в Кронштадте, когда я с батальоном погрузился на корабль и пошел на Неву, на Невскую Дубровку. Что за Дубровка, ты сам знаешь — ад похуже Эльмхольма. Получил я там во время штурма немецких окопов восемь осколочных и четыре пулевых ранения и остался лежать среди убитых матросов между первой и второй линиями немецкой обороны. Ноги перебиты, голова мутная. День пролежал трупом, доступа ко мне от наших не было. А ночью приползли наши за убитыми. И за мной пришли…
И кто бы ты думал?! Наш хорсенский снайпер Григорий Беда!
Помнишь, сколько мы его искали, когда пришли с Ханко в Кронштадт?.. А он, оказывается, купался в декабрьской воде, когда транспорт на мине подорвался. Его подобрали в чем мать родила. А верь — не поверишь — с винтовкой в руках. Тонул человек, а винтовку свою с зарубками не выпустил из рук. Отогревали его у какого-то раскаленного котла. Спину сожгли, но жизнь спасли. После этого лежал он на Васильевском острове, в госпитале, там служила сестрой Люба Богданова. Хорошая она женщина, сколько пережила, тоже ведь с сынком тонула. Все вынесла, выдержала: и мужа потеряла, и сын едва не погиб — выходила, и в госпитале, как мать родная, выхаживала Беду. Из госпиталя его прислали ко мне в батальон. Прибыл он злой, расстроенный. Винтовку у него в госпитале забрали да кому-то отдали. Кто-то другой воевал с его снайперкой, не знал, в память какого сокола насек Беда свою сотню зарубок…