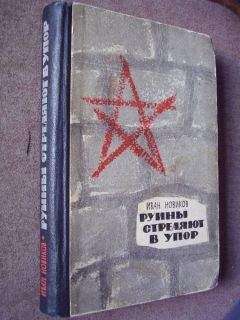После «текущего момента» Малышев повел занятия необычно:
— Сегодня мы поговорим еще и «О неизбежности социализма в России». — Он быстрым движением руки разбил сидящих кружком людей и приказал одной половине:
— Вы будете защищать нашу, большевистскую точку зрения. А вы, — обратился он к другой, — наоборот. Итак, начинаем спор о необходимости социализма… Замазываете, хотите замолчать массовый характер революционной борьбы, инициативу самих масс…
Послышался треск сучка под ногой. Все смолкли. Из-за сосен на поляну вырвался опоздавший на занятия рабочий, красивый, с русыми кудрями.
— Что случилось?
— Заводоуправление вызвало карательный отряд казаков!
Послышался ропот:
— К Первомаю, значит?
— Спокойно, — приглушенно сказал Малышев. — Продолжим занятия.
Расходились с кружка за полночь по одному, по два человека.
Иван возвращался вместе с Ермаковым и удивлялся про себя: как выдерживал Потапыч трудный режим дня? Вставал рано, работал целый день, много занимался, спал три-четыре часа. Правда, и засыпал Ермаков быстро, как ребенок, что-то бормоча во сне.
Неожиданно в Надеждинск приехала Маша. Она теперь работала конторщицей в лесничестве около Тагила. Сконфуженно краснея, сообщила, что выходит замуж. Ее будущий муж — вдовец. У него двое детей, мальчик и девочка. Живет в Тагиле.
Иван Михайлович с ласковым любопытством посмотрел на сестру.
— Любовь?
Маша отвела взгляд в сторону.
— Дети такие славные! Девочка Тоня от меня не отходит… — торопливо произнесла она.
— А как же наше дело? Отстраняешься?
— Ни за что! Но мне ведь, Ваня, уже двадцать пять. А тут я сразу — и жена, и мать… Детям-то мать нужна!
— Героизм — это, говорят, умение видеть мир таким, каким он есть, и любить его! — бросил Иван.
В воскресенье, когда охрипшие колокола сзывали людей в церковь, кружковцы, человек пять, отправились с гектографом в лес: нужно было печатать листовки. Пошла и Маша.
Голубой день подымался над землей. Низко висели облака, неподвижные, сверкающие. За мостом, по берегу Каквы, луга, пышные кустарники.
Кружковцы несли корзины с провизией, чайник.
Выбрали место, разостлали на траве скатерть; двое в кустах патрулировали. Текст листовки Малышев уже написал. Приготовились печатать.
Однако с другого конца поляны, за кустами, раздалась песня караульного:
Снова я к родной семье вернулся,
О которой часто так грустил…
Это было сигналом: чужие.
Гектограф и бумагу спрятали в кусты. На раскинутой скатерти — закуски, рюмки, бутылки с водкой.
А песня, уже с тревожными нотами, продолжала предостерегать:
Снова в шахту темную спустился
И живым себя похоронил…
На тропе показался верховой, за ним другой. Казаки из карательного отряда!
Маша налила два стакана водки, с усмешкой поднесла казакам. Те выпили. Им налили снова. Федя Смирнов подал им по огурцу. Один из карателей тут же сполз на растрепанную траву, уснул. Маша, смеясь, взобралась в освободившееся седло, тронула коня. Пьяный каратель поскакал за ней.
Под храп казака были напечатаны листовки.
Под храп его пели песни. Иван из озорства прочитал стихи:
Скоро, скоро куртку куцую
Перешьют нам в конституцию,
Будет новая заплатушка
На тебе, Россия-матушка!
Ночью листовки были разбросаны по заводу.
После работы на другой день, возвращаясь домой, Иван почувствовал: слежка. Свернул в переулок. А шаги, осторожные, крадущиеся, — за ним. У крыльца барака на плечо его легла тяжелая рука. Обернулся. Перед ним стоял тот самый казак, который вчера ускакал за Машей.
Увидев знакомого, казак сконфуженно улыбнулся:
— Так вот ты кто — Малышев? Ну уж нет! Уж я знаю, что листовки эти разбросал не ты… Уж я так им и скажу, что Малышев не виноват!
— Да разве я позволю, ваше благородие! Да ни в жизнь!
— Я им скажу… — стражник ушел.
Навстречу Ивану из барака на крыльцо вышел рабочий в заплатанном пиджаке. Дряблые старые веки нависли над глазами. Выражение лица было страдальческим.
Иван остановился.
— Что же ты, Степан, костюм себе получше не купишь?
— Не по карману, Ваня…
— Неужели уж на костюм не заработал? — с неожиданным пылом воскликнул тот. — Вот на мне костюм разве плох? А стоит восемнадцать рублей… В Верхотурье покупал.
Степан принялся разглядывать костюм — синий, в чуть заметную полоску.
— Неужели восемнадцать? А у нас в кооперации хуже этого — двадцать два!
Иван вздохнул:
— Наценку сделали, значит… чтобы рабочий человек не забывался.
Дома Киприян спросил, смеясь:
— На ходу агитируешь?
— На ходу…
— Не даешь ты людям покою, Иван!
— Нет, ты подумай, до чего обнаглели заводчики! Людям надо все объяснить! Нам бы с тобой еще к углежогам съездить, узнать, как там живут? Не заросли бы и там у людей глаза…
…Опять падал снег, подморозило землю. Началась зима одиннадцатого года, похожая на все зимы, какие помнил Иван, но, как всегда, он не переставал дивиться свежему морозцу, мягким хлопьям снега.
Выехали в курень углежогов уже в санях. Снег ярко скрипел под полозьями, ели застыли, опушенные куржаком, как белыми тенетами. Хотелось глядеть вокруг и глядеть…
В ряд стояли томильные кучи, как курганы. Всюду поленницы дров, прокопченные сажей. Пахло дымом. И люди, черные, пахнущие дымом, сновали от сарая к сараю.
Привязав лошадь к сосне и бросив перед ней охапку сена, приехавшие направились к кучам. Неожиданно Иван остановился, задержал товарища:
— Подожди!
Из-за кучи несся женский смех и мужской приглушенный голос:
— А что вы смеетесь? Верно я говорю: утекла водица, в ручей не воротится! Ох, и много я вашего брата прозевал! Глаза разбегались! Пока оглядывался, годы прошли!
Лицо Ивана светлело, расплывалось в улыбке.
— Что ты? — начиная улыбаться и сам, спросил Киприян.
— Подожди…
За кучей продолжали смеяться:
— Как же ты, Семен, без бабы-то обходишься?
— Так ведь как? Сирота и пуповину сам себе режет!
— Он. Большеголовый… Немцов! — сказал Иван.
— Какой Немцов?
Но Иван, не слыша вопроса, бросился вперед.
Девушки при виде незнакомого скрылись.
Заросший густой бородой, весь в угольной пыли, Немцов был неузнаваем. У него белели только глаза и зубы.
— А я по поговоркам тебя узнал! Никто их столько не рассыпает, как ты! — тряся друга за плечи, заглядывая ему в глаза, смеялся Иван. — Да как же ты сюда попал, ведь ты на Север удрал?
— Надоело, знаешь, там с солью возиться! В сердце и без того соль… Сам-то ты как здесь? Ведь тебя…
Иван приложил к губам палец.
Немцов поправился:
— Ведь тебя женить хотели!
— Невеста от меня отказалась…
— Ну, опять-таки, играешь с кошкой — терпи и царапины… А как там Стеша живет, не знаешь?
— Она все в той же церкви поет.
— Верная. А в семье как у тебя? Маша замуж не вышла?
— Выходит, но боится: братишка Миша у нее на руках!
Немцов понял. Значит, Миша — партийная кличка Ивана.
Оба рассмеялись.
— Маша летом ко мне приезжала, рассказывала, что в Верхотурье большая радость: царица Александра Федоровна в дар обители пожаловала для священников ризы, стихарь, подризник, пояса да набедренники, две пары поручей и воздухов на святые дары… И все это сделано из платья ее императорского величества, в котором она была одета в день коронования!
— Несешь опять?
Семен огляделся. Около них стоял Ермаков и весело смеялся. Немцов, обращаясь к нему, сказал:
— Так уж, видно, ему на роду написано: упал в воду, так дождя не бойся!
— Ну, а ты-то как… боишься дождя или не боишься? — Иван посерьезнел.
— Так ведь привык уж…
— Здесь как, часто мочит?
— Мало нас здесь. Прячемся, как кроты, за кучами-то… Дождик-то и не достанет…
— Яснее говорить нельзя?
— Идите к лошади. Я за вами, а то у нашего мастера одно ухо длинное…
Усевшись в сани и закрывшись шубами, все трое зашептались «яснее».
— Кооперация здесь есть?
— Мы все пайщики, — неожиданно раздражаясь, сообщил Немцов. — Ларек сюда выезжает два раза в неделю. Цены — не подступись!
— То-то и оно! Ну, ты с детства понятливый был, разберешься без нас, что делать. Гармонь-то с тобой?
— Она без меня — никуда!
— Помогает? Вот мы для нее тебе песен подбросим!
…Разговор о кооперативе в последние дни среди рабочих не прекращался. Особенно сердились женщины.
— Слышь, Лукьяновна! Что это ты от дочери из Перми сатинет ждешь? Разве здесь, в «трудовой»-то, не купишь?
— Да ведь здесь сатинет-то четыре гривны аршин, а в Перми — две гривны!