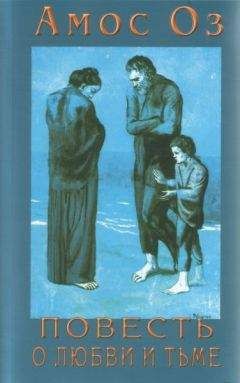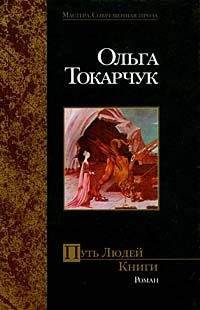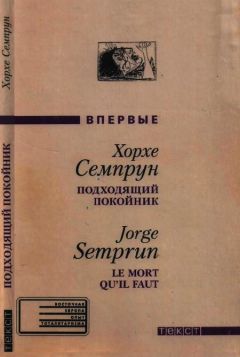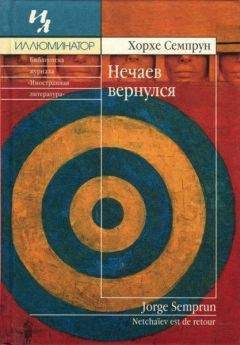Впрочем, совершенно незачем понимать эсэсовцев — эсэсовцев надо просто уничтожать.
Я стоял на широком пустом плацу, на дворе был апрель, и мне уже больше не хотелось, чтобы те девицы в аккуратно натянутых шелковых чулках, в синих юбках, изящно облегавших роскошные бедра, осматривали мой лагерь. Мне решительно этого не хотелось. Не для них поет баян в этот теплый апрельский день. Лучше бы они убрались отсюда куда подальше.
— Смотрите, на первый взгляд здесь не так уж плохо, — сказала одна из девиц.
Сигарета, которую я курил, вдруг потеряла всякий вкус. Я решил, что все же кое-что им покажу.
— Идите за мной, — сказал я им.
И двинулся к крематорию.
— Это что, кухня? — спросила другая девица.
— Сейчас увидите, — ответил я.
Мы пересекли широкий плац, где производилась поверка, песня баяна замерла где-то вдали.
— Нет конца этой ночи, — говорит парень из Семюра.
Мы стоим чуть живые, во мраке этой ночи, которой все нет конца. Теперь нам и вовсе нельзя пошевельнуться из-за того старика, что перед смертью спросил: «Понятно?» — каждый из нас боится задеть его ногой. Я не стану уверять парня из Семюра, что все ночи рано или поздно кончаются: он может разозлиться и дать мне в зубы. К тому же это была бы ложь. Мы знаем, что эта ночь никогда не кончится. Сейчас мы убеждены, что эта четвертая ночь нашего пути никогда не кончится.
Всю первую ночь пути я старался восстановить в своей памяти сторону Свана[14], это был лучший способ отвлечься. Надо сказать, что и я, подобно Марселю[15], в детстве очень рано ложился спать. Я старался представить себе дребезжащий звук звонка у садовой калитки, который всякий раз раздавался по вечерам, когда Сван приходил к ужину. Я вспомнил, какого цвета были витражи в деревенской церкви. А боярышник! Господи, в моем детстве тоже была точно такая же живая изгородь из ветвей боярышника! Всю первую ночь этого пути я старался оживить в своей памяти сторону Свана и попутно вспоминал собственное детство. Я думал, не было ли у меня в детстве какой-нибудь любимой музыкальной фразы вроде той фразы из сонаты Вентейля[16]. Я был в отчаянии, что мне не удалось обнаружить ничего схожего. Сегодня, я полагаю, у меня найдется нечто схожее с той музыкальной фразой из сонаты Вентейля или мелодией Some of these days, столь глубоко волновавшей Антуана Рокантена[17]. Сейчас я мог бы указать, например, на первые такты «Летней поры» Сиднея Беше[18]. Или на то потрясающее место в одной из старинных песен моей страны. Если перевести слова этой песни, то звучат они примерно так:
Ты стоишь белье полощешь —
белоснежное белье,
а в речной воде струится
отражение твое.
После этих слов и начинается музыкальная фраза, о которой я говорю, такая чистая, такая волнующе-нежная. Но в ту первую ночь нашего пути я не смог отыскать в своей памяти ничего схожего с сонатой Вентейля. Позднее, много лет спустя, Хуан привез мне из Парижа три томика Пруста в светло-коричневом кожаном переплете издания «Плеяды». Наверно, я рассказывал ему про эту книгу. «Зачем ты потратил столько денег?» — сказал я ему. «Это пустяки, — ответил он, — но у тебя декадентские вкусы». Мы рассмеялись, и я стал подтрунивать над его прямолинейностью математика. Мы смеялись, но он стоял на своем: «Согласись, что это декадентская книга». — «А „Сарторис“? — спросил я, зная, что он очень любит Фолкнера. — А „Авессалом, Авессалом!“ — тоже декадентская книга?» Мы прекратили спор, решив, что он несуществен.
— Старик, — сказал парень из Семюра, — ты не спишь?
— Нет. — Знаешь, я начал сдавать, — говорит он.
Я и сам начал сдавать. Все мучительней ноет правое колено, распухает прямо на глазах. Вернее, ощупывая его, я чувствую, как оно распухает прямо на глазах.
— Ты хоть примерно представляешь, как там будет, в том лагере, куда нас везут? — спрашивает парень из Семюра. — Понятия не имею.
Мы силимся представить себе, как там будет, в лагере, куда нас везут, что ждет нас в том лагере.
Теперь я все это знаю. Я был в том лагере, я провел в нем два года, и вот теперь я снова пришел сюда с этими сказочными девицами. Потом я понял: они показались мне сказочными именно потому, что это были настоящие женщины, потому, что они были именно такими, каким полагается быть настоящим женщинам. Именно то, что это были настоящие женщины, и показалось мне сказочным. Но парень из Семюра никогда не узнает, как выглядит тот лагерь, куда нас везут и который мы силимся себе представить в эту четвертую ночь нашего пути.
Я провел девиц в крематорий через узкую дверь, ведущую прямо в подвал. Осознав вдруг, что это не кухня, они сразу притихли. Я показал им крючки, на которых подвешивали моих товарищей, — крематорий использовался заодно как камера пыток. Я показал им воловьи жилы, железные палки, которыми били людей, — все осталось на своем месте. Я объяснил, для чего служили эти орудия. Я показал им лифты, доставлявшие трупы отсюда прямо на первый этаж, к печам. Потом мы поднялись на первый этаж, и я показал им печь. Девицы совсем умолкли. Они всюду следовали за мной, и я показал им ряды электрических печей и наполовину сгоревшие трупы, оставшиеся в печах. Я почти не разговаривал с ними, только показывал: здесь то-то, там то-то; я хотел, чтобы они видели все, чтобы они попытались вообразить, как это было. Они совсем умолкли, может, они думали о том, как это было. Может, девицы из Пасси, которые служат во «Французской миссии», тоже умеют думать. Из крематория я провел их во внутренний двор, обнесенный высокой оградой. Здесь я и вовсе ничего не стал говорить — пусть смотрят сами. Посреди двора — груда трупов высотой не менее четырех метров. Груда трупов, пожелтевших, обезображенных судорогой, со страшными лицами. Баян заиграл разудалый гопак, и звуки его полетели к нам. Гопак ворвался в наш двор, заплясал на груде скелетов, которые еще не успели захоронить. Как раз сейчас роют братскую могилу, потом ее зальют негашеной известью. Отчаянно-лихие звуки гопака вьются над телами последних жертв эсэсовцев, над трупами, которые остались здесь во дворе, потому что эсэсовцы сбежали и печь крематория погасла. Я думаю о том, что в бараках Малого лагеря и сейчас еще умирают старики, евреи и инвалиды. Лагерю пришел конец, но нет конца их мукам, и смерти тоже нет конца. Глядя на исхудалые тела мертвецов с торчащими ребрами и впалой грудью, на груду трупов во дворе крематория высотой в добрых четыре метра, я думал: вот они, мои братья. И еще я думал: надо было узнать их муки, как узнали их мы, оставшиеся в живых, чтобы теперь по-братски поклониться им. Прислушиваясь к доносящемуся издалека веселому переплясу гопака, я понял, что тем девицам из Пасси здесь нечего делать. Сама моя попытка объяснить им что-то была дурацкой затеей. Может быть, когда-нибудь потом, через месяц или через пятнадцать лет, я смогу объяснить все это любому и каждому. Но тогда, стоя под апрельским солнцем среди шелестящих на ветру буковых деревьев, я думал: этим страшным мертвецам — моим братьям — не нужны объяснения. Им нужен лишь один взгляд и чистый, братский поклон. И еще им нужно, чтобы мы жили, чтобы мы жили изо всех наших сил.
Надо как-то выставить отсюда девиц из Пасси.
Я оглянулся назад — их уже не было. Они сбежали от этого зрелища. Я вполне понимал их: должно быть, не так уж приятно прикатить на роскошной машине, в красивом синем костюме, облегающем бедра, и вдруг натолкнуться на груду неприглядных трупов.
Вернувшись на плац, где нас выстраивали на поверку, я закурил сигарету.
Одна из девиц поджидала меня здесь. Брюнетка со светлыми глазами. — Зачем вы это сделали? — сказала она. — По глупости, — согласился я. — Нет, скажите, зачем? — настаивала она.
— Вы пожелали осмотреть лагерь, — отвечал я.
— Я хочу продолжать осмотр, — сказала она.
Я взглянул на нее. Глаза ее блестели, губы вздрагивали.
— Нет у меня на это сил, — сказал я.
Она молча посмотрела на меня.
Вдвоем мы зашагали к лагерным воротам. На сторожевой башне развевался приспущенный траурный флаг.
— Это в честь мертвых? — дрожащим голосом спросила она.
— Нет, это в честь Рузвельта. Мертвым этот флаг не нужен. — А что им нужно? — спросила она.
— Им нужен братский поклон и память, — ответил я.
Она снова молча взглянула на меня.
— До свидания, — сказала она.
— Привет! — ответил я. И вернулся к своим ребятам.
— Эта проклятая ночь, видно, никогда не кончится, — говорит парень из Семюра.
Неделей позже я встретил ту девушку со светлыми глазами в Эйзенахе. Одной или двумя неделями позже, я уже точно не помню. Потому что между концом заточения и возвратом к прежней жизни прошли точно во сне какие-то дни: может, неделя, может, больше. Я сидел на лугу за оградой из колючей проволоки, неподалеку от вилл эсэсовцев. Я курил, слушая шум весны. Разглядывал травинки и букашек, ползущих по ним. Глядел, как шевелятся листья на деревьях. Вдруг я увидел Ива — он бежал ко мне: «Вот ты где, наконец-то я тебя нашел!» Ив приехал за мной из Эйзенаха на французской военной машине. Завтра оттуда — прямиком в Париж — уходит колонна из трех грузовиков. Ив забронировал в одном из них для меня место и вернулся сюда из Эйзенаха, чтобы взять меня с собой. Я взглянул на лагерь. Увидел сторожевые вышки, колючую проволоку, по которой уже больше не идет ток. Заводские корпуса и зоологический сад, где эсэсовцы держали ланей, бурых медведей и обезьян.