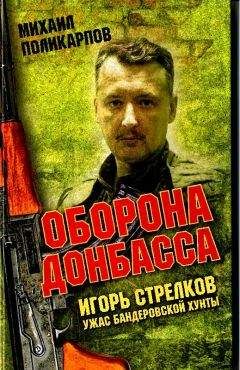Кроме супа раненым дали по куску хлеба и по два квадратика пиленого сахара.
Через какое-то время санитары снова волокли по проходу большой бак и предлагали чай. О, это совсем уже была такая роскошь, в которую не сразу и верили. Чай! Настоящий чай — горячий, коричневый, с плавающими чаинками! Правда, он сильно отдавал запахом супа и на поверхности его обильно поблескивали жировые кружочки, но все равно это был чай. Он согревал душу.
Позавтракав, Гурин снова улегся.
От соломы пахло знойным летом, хлебом, миром. Гурин вдыхал этот желанный запах и понемногу приходил в себя, отходил от того напряжения, испуга, в состоянии которых он был последние дни. «Сколько же дней я пробыл на передовой? Всего три?.. Пять?.. Не больше недели. А сколько событий, сколько людей промелькнуло! Как в кино… Неужели все это возможно на самом деле, неужели все это было и я участник всего?..» — удивлялся Гурин.
Устав лежать на левом локте, он хотел сменить положение и не смог — потревожил рану, боль разлилась по телу.
«Было, все было… И кошмар этот был… И сейчас еще продолжается, и люди там… наши люди. Что с ними, с остатками нашей роты?..»
«А сколько же дней прошло, как я ушел из дому? Девятого сентября ушел… А сегодня? Какое сегодня число?..»
— Какое сегодня число? — спросил Гурин у соседа, который держал на груди загипсованную руку и все трогал чуть видневшиеся из-под бинта кончики посиневших пальцев, проверял — живы ли они.
— Что? — обернулся тот.
— Какое сегодня число?
— Четырнадцатое, кажется.
— Октября?
— Ну да.
«Четырнадцатое октября, — стал считать дни Гурин. — Всего месяц и пять дней, как я из дому? Так мало? Не может быть! Если рассказывать кому все день за днем — больше времени займет. Как там дома?..» Он силился припомнить лица родных. Мать, похудевшая, сидит на табуретке, руки положила в подол, думает. Танюшка, черноглазая девчонка, заплетает медленно косы из своих жестких волос, смотрит на мать, выводит ее из задумчивости: «Ну, мам! Ну, што вы все думаете?..» — «Как же не думать?..» — отвечает мать. «А где же Алешка? — вспоминает Василий братишку. — Наверное, бегает на улице. А может, в школе? И Танюшка, может, в школе. Теперь, наверное, школа открылась. Интересно, как она могла открыться? Немцы ведь сожгли школу. Может, в четыре смены учатся, на выгон все ходят — там уцелела начальная школа, построенная еще земством…»
«Неужели только месяц и пять дней прошло с тех пор?» — Гурин снова возвращается к пережитому и удивляется краткости времени.
На улице шумел дождь, барабанил по черепичной крыше коровника. Первый осенний дождь. «Опять мне повезло, — думал Гурин. — За все это время не пережил ни одного серьезного дождя, а на передовой — так и вовсе все дни было сухо и солнечно. Каково в такую погоду в окопах? — Он невольно поежился. — Повезло…»
Пришел замполит и прочитал последнюю сводку Совинформбюро:
— «На Мелитопольском направлении наши войска после трехдневных ожесточенных боев прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу противника севернее и южнее города Мелитополь, форсировали реку Молочная и, продвинувшись от 8 до 10 километров, с боями заняли свыше 20 укрепленных: пунктов противника. Бои идут в центре города Мелитополь. Немцы несут огромные потери в живой силе и технике.
…По неполным данным, за три дня только южнее Мелитополя уничтожено свыше 4000 немецких солдат и офицеров, 38 танков, 16 самоходных и 82 полевых орудия. Нашими войсками взяты большие трофеи…»
Гурин слушал сводку внимательно, боясь пропустить хоть одно слово. Ведь это сообщение за вчерашний день, как раз когда его ранило. Он ждал, что там будет расписана вся жуть, какую он пережил, но сводка сухо сообщала лишь итоги, да и то неизвестно где. И он разочарованно подумал, что сводка об ихнем наступлении совсем ничего не сообщает…
Прочитав сводку, политрук пошел вдоль прохода, заговаривая с ранеными.
— А Зеленый Гай взяли? — спросил у него Гурин, когда он поравнялся с ним.
— Зеленый Гай?.. Не знаю… Это что, твоя родина?
— Нет. Там меня ранило…
— На каком направлении? — спросил замполит.
— На Зеленый Гай.
— Мелитопольское?
— Не знаю.
— Постараюсь выяснить, — пообещал замполит и пошел дальше.
Позднее от соседей Гурин узнал, что он наступал действительно на Мелитопольском направлении, и ловил теперь его в сводках, как что-то свое, родное.
Наши наступали, занимали сильно укрепленные пункты, города, а Зеленого Гая все не было, будто его и вовсе не существовало. Даже обидно было — столько там полегло, а в сводках — ни слова. И только в сообщении за 22 октября он вдруг услышал:
«В течение 22 октября в районе севернее города Мелитополь наши войска, в результате упорных боев, сломили сопротивление противника и овладели сильно укрепленными пунктами его обороны — Карачекрак, Эристовка, Украинка, Калиновка, Кренталь, Зеленый Гай, Ильиновка…»
«Наконец-то! — чуть не закричал Гурин, услышав знакомое название. — Вот, оказывается, сколько дней еще там бились! Сколько же там полегло наших?.. Зеленый Гай… Зеленый Гай…» — шептал он.
Зеленый Гай, которого он, по существу, и не видел, запомнился на всю жизнь. С тех пор война, фронт, наступление — все эти понятия связывались у него только с Зеленым Гаем: здесь он впервые почувствовал запах тротилового смрада, пороха, здесь он впервые видел бой, здесь впервые его ранило…
исьмо в Букреевку пришло поздней слякотной осенью. Дрожащими руками распечатала мать затертый треугольник, не читая обшарила его глазами — искала число. Нашла, улыбнулась: свежее письмо! Пришло оно из госпиталя. Чтобы успокоить мать, Гурин сразу сообщал подробности: ранен легко, в плечо. Осколок мины в лопатку угодил, но кость цела. «Так что вы на госпиталь мне не пишите: не успеет письмо прийти, как я выпишусь отсюда», — добавлял он.
Мать несколько раз перечитывала письмо, слезы застилали ей глаза, она вытирала их и читала еще и еще раз.
— Стреляли в него, хотели убить… Бедный мой сыночек, какую страсть пришлось пережить. Но живой, живой, — думала она вслух. Потом бежала к соседям, показывала письмо, говорила: — Ранен, но живой! Миною проклятый немец ранил. В плечо. А вот подробностей не сообщает. Может, еще чуть — да и в самое сердце. Бедный мальчик… Ну, хоть отделался легко да живой остался. Отбыл свой долг, теперь уж ему ничего не грозит. — И она совсем успокоилась и почему-то ждала его домой. А когда в одном письме в нижнем уголочке прочитала мелкое «с. Чапаевка», совсем потеряла покой: узнавала у раненых, пришедших на поправку домой, где эта Чапаевка. И узнала-таки! Оказалось, той же дорогой надо ехать — до станции Пологи. Быстро снарядились с Алешкой и тронулись в путь…
* * *
Раненые все прибывали, в коровниках — а их было четыре или пять, таких длинных и просторных, как вагонное депо, — становилось все теснее.
Госпитальное начальство нашло выход: всех ходячих стали расселять по хатам. Повели первую группу, в нее попал и Гурин, потекли они медленно по мокрой улице, останавливаясь у каждого двора.
— Сюда три человека, — указывал провожающий. Трое направлялись в ворота, а остальные шли дальше.
— Сюда — пять.
— Ого!
— Пять! Вот вы, — отсчитал он пять человек. — Идите.
Наконец дошла очередь до Гурина.
— В этот дом шесть.
— Ого!
— Ну что «ого»? Надо же куда-то людей размещать? Так. Шесть. Ты шестой, — отделил провожатый Гурина от остальных. — Идите. Вы будете старшим, — сказал он самому пожилому из группы. — Как ваша фамилия?
— Ефрейтор Харабаров.
Тот записал фамилию и повел толпу раненых дальше.
Раненые вошли в хату и остановились у порога: перед ними была чистенько смазанная земь и на ней разноцветная домотканая дорожка. Солдаты поглядывали на свои мокрые шинели, на грязные ботинки, сапоги и не решались ступить дальше порога.
— Ничого, ничого, — пропела хозяйка в белом платочке. — Проходьте… Там вы будете жить, — указала она на дверь в горницу.
У стола сидел бородатый старик, крутил цигарку, смотрел на солдат хмуро и так же хмуро поддержал свою старуху:
— Проходите, чого уж там, — кивнул он на ноги солдат.
В горнице для них была приготовлена постель: аккуратно разложенная свежая сухая солома на земляном полу застелена сверху чистым рядном. В головах вместо подушек возвышался соломенный валик. Пока другие разглядывали опрятную горницу, рушники, развешанные в углу над иконами и над увеличенными фотографиями на стенах, Гурин поспешил занять крайнее место, обеспечив себе спокойствие с правого фланга. Бросил под лавку вещмешок, сам опустился на постель и утонул в рыхлой, взбитой заботливыми руками соломе.