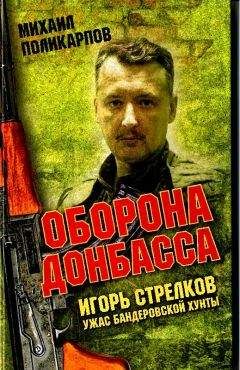— Мама!.. — сказал он тихо.
Она вздрогнула, вскинула на него глаза, узнала, а все еще не верит глазам своим. На нем шинель наполовину внакидку — левый рукав надет, а правый болтается пустым.
— Ой, сыночек мой! Руки нема?! — вскрикнула она, вскинув руки к лицу.
— Есть, цела рука, — сказал он улыбаясь и показал ей подбородком себе на грудь под шинель.
— И шинель в крови… — продолжала она оглядывать Василия, а губы ее плаксиво дергаются, в глазах слезы стоят.
— Как вы сюда попали? Откуда?
— Третий день ищу… — И не сдержалась, заплакала, жалуясь: — Отчаялась совсем. Это ж я на станцию уже иду. И думаю, дай еще раз пройду, посмотрю, поспрашиваю… Как чуяло сердце. А пройди я мимо?.. Я ж была уже здесь.
— Да откуда вы узнали адрес?
— А ты же письмо прислал, и в уголке написал: «с. Чапаевка». А Чапаевка у нас уже известная, многих домой на поправку поотпускали. А про тебя слух прошел, будто убитый. — И снова у матери губы задергались, слезы покатились по щекам, она заплакала, уже не сдерживаясь.
— Не надо, мама… Живой же, чего ж плакать?
— Извелась вея, пока получили письмо…
— Почта, наверное, плохо работает: я сразу написал.
— Людская молва быстрей всякой почты разносится. Значит, все-таки правда: кто-то ж тебя видел, — она кивнула на окровавленную шинель.
— Вряд ли… Знакомых никого не было. Как же вы не побоялись в такую дорогу пуститься?
— А я не одна. Я с мужиком. Алеша увязался. Как отговаривала, нет, не отстал…
— Алешка с вами? — удивился и обрадовался Гурин. — Где же он?
— В другой конец деревни пошел тебя искать. Договорились встретиться возле сельсовета. Может, он уже и ждет меня там.
— Алешка здесь! Так вы идите к нему, а я сейчас получу обед и тоже приду.
— Как? Тебя оставить одного? — всерьез испугалась она. — А вдруг опять потеряешься?
— Не потеряюсь! Теперь я вас буду искать.
Она согласилась, пошла к Алешке. Гурин дождался своей очереди у кухни, получил полный кувшин супу — ему теперь много надо: хозяев кормить, гостей угощать — и пошел к сельсовету. Еще издали увидел своих. Вернее, Алешку он не узнал, а догадался, что это он: забрызганный осенней грязью, неумытый, глаза красные от усталости, улыбается смущенно, подойти к брату не решается, словно чужой. Кидает растерянно глазами то на окровавленное плечо шинели, то на пустой рукав, не знает, как вести себя. И все-таки радость от встречи побеждает, он кидается к Василию, прячет лицо у него на груди, прижимается крепко. А Василий не может его обнять: одна рука на перевязи, другая занята ношей, стоит, подбородком прижался к голове братишки.
— Тише ты, ему же больно, — говорит мать, и Алешка виновато отступает от Василия.
— Да нет, не больно. Рана на спине… Отчаянный вы народ! — восхищается своими Гурин. — Это ж вы ехали, наверное, и на буферах, и на ступеньках вагонов?..
— И на крыше, и в теплушке с солдатами, — добавила мать. — Страшней всего было на буферах. За Алешку боялась: вот как уснет да свалится под колеса.
Алешка машет рукой — мол, делать матери нечего, как о нем беспокоиться: что он, маленький?
— Стоило рисковать… — упрекает их Василий.
— Стоило, стоило, — быстро говорит мать. — Ну, веди на свою хватеру, что же мы, так и будем на улице стоять?
Привел он их к себе и поселил рядом с собой на солдатской соломе. Делился с ними своим солдатским пайком. А мать добыла за какие-то гроши, а может, выменяла на какую-нибудь барахолину на местном, базаре муки и бутылочку подсолнечного масла, испекла пирожков с картошкой. Румяные, пахучие, вкусные. Угощала ими стариков — хозяев сына, и те были очень довольны, хвалили мать, какая она мастерица куховарить.
С неделю прожили у него мать и братишка, наступило время расставаться. Василий засуетился, забеспокоился — подарок бы нужен, как же без подарка провожать гостей? А у него, как у нагиша, — вещмешок да душа. Все на нем военное, казенное. Гимнастерка, шаровары солдатские — всего по одной паре, да и то б/у — бывшее в употреблении. Даже запасной пары портянок нет, чтобы подарить Алешке — пригодились бы, за войну совсем обносились, на хлеб обменяли все. И обрадовался безмерно, когда вспомнил о пачке печенья. Вытащил из-под лавки вещмешок, достал пачку настоящего фабричного печенья, протянул матери:
— Вот вам гостинец. Танюшке повезете от меня подарок.
— Печенье? Откуда? — удивилась мать.
— На фронте давали, — сказал он небрежно и про себя поблагодарил Иванькова: как он выручил его!
Провожать своих Гурин пошел до самой станции Пологи. Шли дорогой, разговаривали. Мать совсем привыкла к нему такому — в шинели с засохшими бурыми пятнами крови на ней, с рукой, на привязи — и успокоилась: ничего страшного с сыном не случилось, жив и даже не калека. Руки, ноги целы, и слава богу… Правда, натерпелся страху, пережил боль, ну что ж… На то и война. Спасибо, господь помиловал, спас от худшего — многие вон совсем головы посложили…
— Ну, выздоравливай, сынок, поскорее. Наконец-то твоя душенька успокоилась. Отбыл свое, пролил кровь, совесть теперь тебя не будет мучить, и мне легче. Да оно, я тебе скажу, другие вон как-то сумели, затаились, дома сидят — и ничего. Брони заимели… Не вижу, штоб их дужа совесть мучила… Ну не морщись, не морщись. Это я так, к слову пришлось. Я ж их не хвалю?.. А только мне обидно: за што нам такая доля? У них отцы, у них все… И война их не коснулась, стороной обошла. Живут все дома — не тронуты, невредимы. А мой сыночек и детства как следует не видел — все в нужде, да в голоде, да в холоде, и теперь ему больше всех достается. За какую такую провинность? — Мать заплакала.
— А говорила, успокоилась. Не надо, мама. Всё теперь уже позади. Пусть, мало ли кто как живет! Зато мы можем людям прямо в глаза смотреть: мы никогда не ловчили.
— Это правда, — согласилась мать, вытирая глаза кончиком платка. — Это правда. Нам нечего стыдиться, оттого и ходим прямо и свету больше видим. А у них голова вниз — всё глаза прячут. Я всегда говорила вам: будьте честными. В этом наше богатство.
Они стояли на перроне и только теперь разговорились, за неделю этот разговор почему-то не возник.
Алешка был рядом, слушал, смаргивал белесыми ресницами набегавшие слезы, глотал их незаметно, силясь не расплакаться.
— А ты почему сырость распустил? — Василий подбодрил братишку, но тот сконфузился, махнул на него рукой:
— Иди ты… — и отвернулся, стыдясь своих слез.
— Как же: жалко брата, — сказала мать и обернулась к Алешке: — Ничего, не плачь, сынок: теперь мы его повидали. Все самое страшное позади уже, верно… Все позади.
Василий обнял Алешку, прижал к себе, сказал как можно бодрее:
— Держи хвост пистолетом! — Глупая какая-то поговорка вырвалась, самому стало неприятно, и он тут же, чтобы замять ее, наставительно произнес: — Учись только как следует.
— Да, с учебой у него не очень, — подхватила мать. — Голубей больше любит.
— Голубей завел? — удивился Василий. — Хороших хоть?
— Ага! — погордился Алешка, выворачивая голову из-под братниной руки. — Черно-рябые. Летают — как свечечки стоят над двором.
— Ух ты! — позавидовал Василий.
— Ну вот! Пожалилась, а они оба ишо дети, — усмехнулась мать. — Твоя невеста объявилась, — сказала она. — Чуть не забыла сообчить.
— Какая невеста?
— Какая? У тебя их много было? Валя Мальцева. Живет в Красноармейском, вышла замуж.
— Ну и ладно, — хмуро сказал Василий.
— Так что ты ее в голове не держи.
— А я и не держу. Откуда вы взяли?
— Паша Земляных со мной очень ласково здоровкается. И все спрашивает про тебя. Никогда мимо не пройдет, чтобы не спросить за тебя. Очень хорошая девочка. Красивая стала!
Василий молчал. Паша их соседка, одноклассница Гурина, они с ней с самого первого класса вместе в школу ходили, к ней он относился, как к сестре, — безразлично, но защищал и в обиду не давал. Чернобровая дивчина эта Паша, черные как смоль волосы расчесаны на пробор, и две тяжелые косы лежат на спине до самого пояса.
— Привет передавала, — не унималась мать. — Так что ей сказать?
— Как что сказать? — удивился Василий. — Привет передайте.
— Хорошо, передадим. Она говорит: «Письмо б написала, да стесняюсь». — «А чего стесняться? — говорю. — Товарищи по школе. Напиши, возьми адрес». На писала?
— Нет…
— Вот какая стеснительная!
— Ладно, давайте о чем-нибудь другом, — оборвал Василий разговор.
— Ну вот, и ты такой же… О другом — о всем, кажись, уже рассказали. Пойдем мы. Поищем поезд в нашу сторону.
— Так и я с вами.
Они подошли к порожняку, который стоял в парке отправления, К нему уже был прицеплен паровоз, нетерпеливо попыхивавший струйкой пара. Гурин увидел капитана — он забросил в пустой вагон вещмешок, подошел к нему.