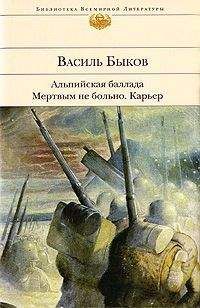Прежде чем выпить, я немного колеблюсь и влюбленно гляжу на Юрку.
– Юрка, дружище! Холера! Как хорошо, что мы встретились!
Юрка беззаботно смеется:
– Ну давай! До дна.
Нет, до дна нельзя. Три глотка обжигающей жидкости, потом – захватывает дыхание и – предательский кашель. Ого, видно, это не шнапс, похоже, спирт. Но тут – горячую картошину в рот и прядочку волокнистого белого мяса. После меня, также поперхнувшись, из кружки допивает Юрка.
А ничего себе – и выпивка, и горячая картошка (если бы еще хлеба!). Торопливо, с усиливающимся шумом в голове, едим, а из души уже рвется вместе пережитое, то, что отошло в прошлое, но вдруг воскресло во мне с приходом Юрки.
– Слушай, а ты Дроздовского не встречал?
– Дроздовский же погиб. Еще на Днепре. Под бомбежку попал.
– Гляди ты! Такой осторожный. А где это наш помстаршина Одиноков?
– Одиноков – ого! Одиноков комбатом стал.
– Комбатом?
– Правда, ненадолго. Ноги оторвало. Под Пятихаткой.
– Жаль. А может, и нет? Зануда он.
– Зануда, – соглашается Юрка.
– А не знаешь, куда Кузнецов Валька пропал?
– Кузнецов? Понимаешь, не знаю даже, где он и воевал. У него же отец генерал. Помнишь, ехали на фронт, все шутили над ним: Кузнецов, мол, к отцу адъютантом пойдет. А я как-то однажды – погоди ты, не знаю уж, где это и было... – как-то отошел в сторону от дороги, к могиле. Гляжу, табличка. Читаю и вдруг: младший лейтенант Кузнецов В. С. Точно, наш Валька. Вот тебе и адъютант.
– Да-да... Ну, ты ешь. Бери вот кость.
– Нет уж, кость ты бери. Я картошку.
Картошку мы едим дружно. Кость на крышке остается – ее не поделишь. Черт с ними – с танками, я уже их не боюсь. В конце концов, ни черта они нам не сделают. Ротмистровцы из пятой танковой уже, видно, окружили Кировоград, мы наступаем, наша берет. Плевать нам на танки! Пусть себе утюжат в степи кукурузу, завтра привалят «ИЛы», устроят им Сталинград.
Мне становится хорошо, легко, даже весело. Я люблю Юрку, Катю, этого арапистого сержанта в куртке десантника и тех вон санитаров, что с блаженными улыбками на щетинистых лицах подпирают плечами печь. И даже немца. О, как он старательно выскребает картошку из котелка – любо поглядеть.
Разговор в хате усиливается, оживление растет. Нет-нет да и раздастся смех. Раненые забывают про свою боль. И все Юркина фляжка!
В углу, под клубами табачного дыма, кто-то, смакуя цигарку, рассудительно, со скрытым желанием поразить своей удачливостью, рассказывает:
– Да-а. Я это давно заприметил. Душа, она чутье свое имеет. Она, брат, тоже командует. Как-то лежу под тыном – село одно брали. Лежу тихо, пули верхом идут. Кажется, чем не укрытие. Да что-то меня будто подмывает – а ну, Петро, перебегай. Не хочется вставать, пули свистят, но как-то встал и через плетень сиганул к хате. И только я это упал под стенку, сзади ка-ак шарахнет! В аккурат на том самом месте. Вот, брат, как бывает.
В другом углу, возле перегородки, видно, собрались бывалые солдаты, и у них уже другая тема и другой разговор.
– Пуля что! Пуля аккуратная. Тюкнет – и маленькая дырочка.
– Особенно если навылет.
– Точно комар укусит. Месяц – и все готово, заживет, как и не было.
– Ну не говори. Бывает, рикошетом которая, та уж продырявит здорово.
– Пуля – что?! Осколок – вот это калечит!
– Осколок, оно, конечно.
– На четверть разворотит. Да еще доктора на две четверти располосуют.
– Ага. Рассечение называется. Я знаю. Уже четвертый раз попадает.
– Ну. Вот тогда повоешь. На квартал, не меньше.
А откуда-то неподалеку из шума и говора пробивается тихий, рассудительный голос человека, у которого, наверное, наболело на душе, ноет. И он делится, но не со всеми, а, видно, с одним, с тем, кто поймет и не высмеет:
– Понимаешь, пришел. А она возле меня увивается... Говорю: «Как живешь, Глафира?..» Так спокойна, но гляжу, мельтешит у нее что-то в глазах. А знаешь, люди мне уже кое-что шепнули... «Стерва, – говорю, – кому изменяешь?..» Понятное дело, ремень, он хоть и брезентовый, но твердый... Ну, завязал вещмешок и на станцию... Капитан говорит: «Ты что, Сокольников, досрочно?» – «Досрочно, – говорю, – желаю быстрее врагов бить...» – «Молодец, – говорит, – патриот. Берите, товарищи, пример с рядового Сокольникова».
Накинув на плечи полушубок, по ногам к нам пробирается Катя.
– А ну, подвинься.
– Пожалуйста, сестра, – говорит Юрка, с готовностью давая ей место у стены.
Катя молча садится, прикрыв колени полой полушубка. На койке с хмельным удовлетворением на лице ощеривается сержант:
– Ганс, ком!
Немец выдрессированно вскакивает с пола.
– Ты за кого? А ну скажи? Чтоб все слышали!
Пленный старается понять, но это ему не удается, и он мучительно моргает глазами. Сержант старательно разъясняет:
– Ну кто ты? Буржуй? Рабочий? Фашист?
– Их бин дейч лерер! – наконец догадавшись, отвечает пленный.
Но бойцы вряд ли понимают его и вопросительно глядят из углов, со скамьи, с пола. Они пока что отвоевались и теперь добрые. В глазах удовлетворение и покой. И хотя белеют в сумраке забинтованные руки, ноги, головы, но это теперь не беда, а скорее удача, ибо главное – живы. И если все же болит где-то, то разве в том вина этого вот покорного, услужливого и даже пугливого немца, который сам сдался в плен? Немец, наверно, чувствует это и спокойно смотрит, как из угла пробирается к нему низенький в обмотках пехотинец с рябоватым от оспы лицом. Под накинутой шинелью у него толсто забинтованное плечо. Это, кажется, тот, что беспокоился, налили ли немцу выпить.
– Слушай, Фриц! А у тебя дети есть? – спрашивает он.
Немец не понимает.
– Ну дети, кумекаешь? Пацаны, вот такие? – ладонью он отмеривает высоту вровень с поясом.
– Киндер? – догадывается немец и торопливо отвечает: – Цвай киндер. Два ребьенка.
– И у меня двое детей! – радостно удивляется пехотинец, и его рябоватое лицо сияет в простодушном восторге.
И тогда из-под шинели в углу поднимается темная большая фигура. Не разбираясь, что под ногами, на кого-то наступив и пошатнувшись, этот человек бросается к немцу.
– Врешь, гад!
Большой и неуклюжий, в промазученной телогрейке, он дрожащими руками выхватывает из кирзовой кобуры наган и, взводя, щелкает курком. Немец отступает на шаг, руки его инстинктивно вскидываются навстречу танкисту.
– Стой! – кричит с койки сержант.
– Ты что? – кричу я, неловко вставая из-под стены. Кто-то еще кричит. Рядом быстрее меня вскакивает Юрка. Одной рукой он хватает танкиста за локоть:
– Спокойно! Спокойно!
Сержант, вскочив с койки, заслоняет немца.
– А ну спрячь свою пушку! – властно приказывает он. – Вояка!
– Зачем... это самое... детей сиротить? – спрашивает рябоватый боец.
И тогда высокий взрывается:
– Ах, детей! Такую вашу... Его детей жалко! А моих кто жалеть будет?
Он бьет кулаком в свою грудь. На крупном костистом лице его ярость, губы дрожат, глаза ушли под лоб и не предвещают добра. Но все же хлопцы не дадут ему здесь учинить убийство. За сержантом, заметно испугавшись, стоит немец.
– Ты чего разошелся, как Гитлер? – говорит бойцу сержант и кладет руку на его плечо. – Ты же русский. Русский, да? Ну так чего ж ты, как бандюга, за пушку хватаешься? Он же пленный...
В хате становится тихо. Слышно, как в углу кряхтит обгоревший летчик. Его высокий сосед еще раз наделяет немца ненавистным взглядом и неохотно возвращается к товарищу. Кажется, конфликт кое-как улажен. Сержант, прежде чем залезть на кровать, легонько толкает немца:
– Не дрейфь, Гансик. Давай трави дальше.
Немец нерешительно отступает на свободное место.
– Их никс наци. Их бин ляндлерер, – говорит он поникшим голосом.
Я снова опускаюсь на солому возле стены. Рядом садится Юрка. Катя, кутаясь в полушубок, говорит:
– Не верю я ему.
– Ну почему? – не соглашается Юрка. – Бывают и среди них люди.
– Ирод он, а не человек.
– Почему так?
– Так.
– Вот те и раз! Это что такое? – вдруг удивляется сержант. В его руке колпачок от Юркиной фляжки, в который он наливал соседу по койке. Спирт в колпачке остался нетронутым.
– Эй, землячок, ты что махлюешь?
Он тихонько толкает раненого в плечо, еще недавно тот стонал и метался, а теперь и не пошевелится.
– Эй! – сержант встревожено присматривается к нему. – Да он уже готов!
К кровати подходят санитары, встает Катя. Они долго щупают у бойца пульс.
– Фу ты, холера! – не сдерживает досаду сержант. – И сто грамм не допил, чудак.
Санитары в молчаливой угрюмости за полы шинели стаскивают труп с койки и, напустив холоду, выносят его из хаты. Им помогает немец, который затем, не зная, куда себя девать, жмется к порогу. Но его скоро замечает сержант.
– Ганс, ком сюда. Место есть. Ну, что ж – помянем земляка, – говорит он и лихо опрокидывает колпачок.
Немец учтиво садится на койку:
– На здоровье!
Сержант крякает от удовольствия и хлопает немца по плечу: