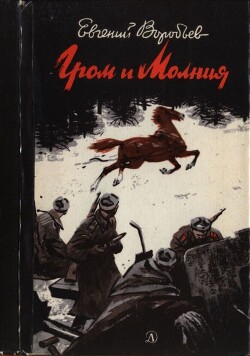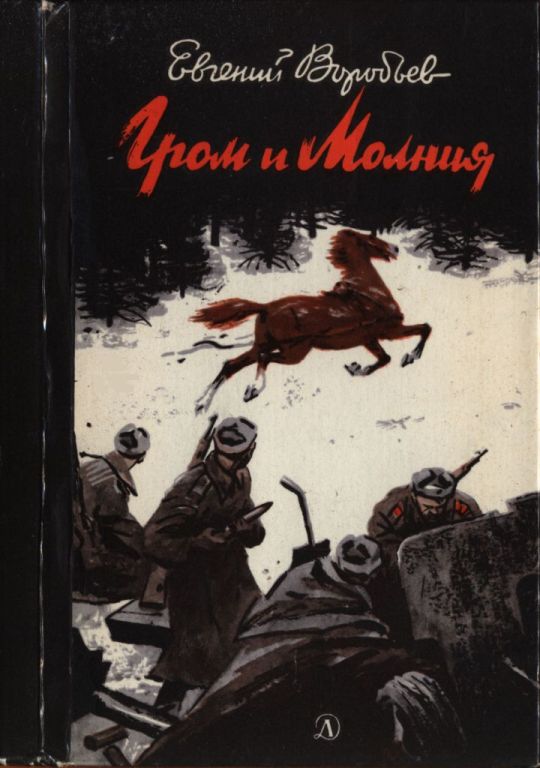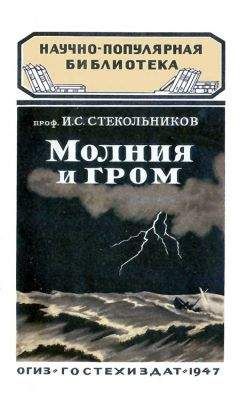Не торопясь вернулись они на площадь Революции и вторично спустились в метро — есть время прокатиться взад-вперед. Несколько раз они выходили из поезда, пересаживались и осматривали станции. Кавтарадзе особенно понравилась станция «Маяковская» — со стальными колоннами. Он готов дать руку на отсечение — к этой стали добавляли их чиатурский марганец. А Федосееву приглянулись «Красные ворота» — красные и белые плиты под ногами, белые ниши и красные стены; такие же краски на горизонтах калийного рудника.
В огромном бомбоубежище, каким стало московское метро, сложился свой быт. На станции «Курская» работал филиал публичной Исторической библиотеки: он открывался, когда прекращалось движение поездов. Федосеев проникся уважением к подземным читателям — занимаются в часы воздушной тревоги!
«А сам даже не записался в библиотеку на руднике. И вообще ленился читать…»
Станции готовы к беспокойной ночной жизни. Топчаны, сложенные штабелями; куцые детские матрасики в дальнем углу платформы; деревянные трапы, чтобы сходить с платформы в тоннель.
Впервые в жизни, да еще находясь в метро, лейтенант беспокоился — только бы не было воздушной тревоги! Дивизион-то будет двигаться через Москву при всех условиях, а пассажиров могут не выпустить из метро — все эскалаторы в такие минуты бегут вниз и движение поездов прекращается, потому что публику размещают в тоннелях, а перед тем снимают напряжение с третьего рельса.
Пожалуй, из предосторожности нужно покинуть метро до того, как в восемнадцать ноль-ноль окончится движение поездов и станции начнут принимать потоки ночлежников…
Закончили путешествие на станции «Смоленская». В морозном облаке пара тускло светилась синим светом коренастая и приземистая буква «М».
У вестибюля уже выстроилась очередь. Сегодня погода благоприятная, звезд не видать, и потому ночлежников немного: преимущественно женщины с детьми, старики и старухи. Но Федосееву бросился в глаза молодой мужчина атлетического телосложения.
«А этот чего сюда при синем свете от войны прячется? Тяжелоздоровый?.. У нас на Урале про таких говорят: «Шаньги на щеках печь можно».
Дома затемнены, как нежилые, а вся широкая улица — как выморочная. Не слышно шума городского. Прошла машина с прищуренными фарами — узкие прорези пропускали лишь подслеповатый синий свет.
Снег не унимался, и нелетный вечер нес городу сон и покой. Прежде, вспоминал лейтенант, даже в такой снегопад начиналась дворницкая страда — шваркали лопаты, звякали скребки, движущиеся транспортеры ухватисто подгребали комья, глыбы, сугробы снега, и снег увозили машинами. Ох и намерзся он когда-то, взирая на диковинную снегоуборочную машину!
В томительном ожидании семеро артиллеристов стояли на кромке тротуара и вслушивались в простор Садового кольца — не громыхают ли вдали тягачи с пушками на прицепе?
Доносились только гудки полуслепых автомашин.
Лейтенант взял Федосеева под руку, отвел в сторону и сказал доверительно:
— Отсюда до моего дома рукой подать. — Он протянул руку в сторону пустынной улицы: — Во-о-от там… — Он вдруг прихлопнул на себе ушанку. — Да, забыл сказать, Федосеев. Насчет твоей просьбы. Доложил «ноль пятому» и получил «добро». Так что прощайся с тылом, с огневой позицией. Будем ползать, прятаться и подглядывать вместе…
— Порядок! — Федосеев обрадовался.
Просто удивительно, как быстро сдружились наблюдатель и его телефонист! Так могут сдружиться только люди, которые неделю подряд сидели, тесно прижавшись друг к другу в воронке, грызли вдвоем один мерзлый сухарь, смотрели по очереди в один бинокль, делили на двоих кирпичик пшенного концентрата, прихлебывали из одной фляжки, спали по очереди, а в уши им свистели одни и те же осколки.
Первым в снежной полутьме различил очертания головного тягача не кто иной, как Нечипайло.
Всей группой они побежали через улицу. Посередке мостовой громыхали двухкилометровым ходом тягачи «ворошиловцы» с пушками на прицепе. Можно было забраться на станины орудий и на ходу, но командир, ехавший впереди в белой «эмке» вместе с замполитом, увидел своих и остановил колонну.
Лейтенант Воейков доложил, что вверенная ему группа в количестве шести бойцов вернулась после увольнения в город в полном составе и в назначенное время…
Это только походка у Воейкова штатская, а подход к начальству у него образцовый, и каблуками он пристукнул молодцевато, и руку лихо вскинул к ушанке, и отрапортовал бравым тоном.
Тут же раздалась команда «по ко-о-ням!», и все разбежались по своим расчетам.
— Эй, сибиряк! — закричал водитель тягача, как только увидел башлык Кавтарадзе. — Прыгай сюда! На теплую плацкарту… Поближе к мотору.
Меж сведенных станин орудия безмятежно спал Суматохин. Он положил под себя плащ-палатку, набитую сеном, а накрылся не то какой-то попоной, не то орудийным чехлом — в полутьме не разобрать. Ему не было никакого дела до того, что пушки громыхали по улицам Москвы, которой он никогда не видел.
Однако что за незнакомый пассажир на соседнем тягаче? На сиденье позади водителя пристроился какой-то толстяк.
Нечипайло вгляделся — да это же не толстяк, а толстушка. У кого же волосы так симпатично выбиваются из-под ушанки? Ай да Груня! Хрупкая барышня, а характера твердого. Ну и закутали ее! Наверно, родители на нервной почве весь гардероб напялили на дочку, а сверху еще ватник и эту мятую шинель.
«Где же наш телефонист? — заерзал Нечипайло. — Трясется в конце колонны со своим лейтенантом. Их теперь кипятком не разольешь. Федосеев небось и не знает, кто к нам на батарею определился. Обрадую его на первой остановке. Вот глаза растопырит! Впрочем, он теперь — отрезанный ломоть. Москвич сманил его в разведку».
Лейтенант и Федосеев сидели с расчетом шестого орудия. Лейтенант повернулся налево и все вглядывался в темноту широкой улицы, за которой лежал еще более темный Арбат.
А Федосеев неотрывно смотрел на мостовую. Два пучка синеватых лучей с трудом пробивали плотную темень. В чуть подрагивающих лучах видны были редкие снежинки. Они возникали из черноты, там же пропадали, и потому казалось, что снежинки падают только, пока освещены.
1968
ГОЛУБАЯ ЗАПЛАТКА
Мы лежали и прислушивались к дождю. Капли стучали о плоскость и стекали с ее краев, но трава под крылом самолета была по-прежнему сухой, и чувствовали мы себя на этом зеленом островке хорошо и покойно.
Ляпунов с нежностью провел ладонью по гладкой поверхности крыла и нащупал маленькую заплатку, едва различимую под слоем краски. Заплатка была как шрам на теле, незаметный для постороннего глаза. Крыло выкрашено снизу под цвет неба — весь самолет на голубой подкладке.
— Я в тот день восемь пробоин привез, — сказал Ляпунов и еще раз погладил заплатку. — Спасибо Ивану Митрофановичу, выручил. Знаменитый старик!
— Старик? Как же он сюда попал?
— Это, доложу я вам, целая история, — сказал Ляпунов с притворным равнодушием.
Ему самому хотелось рассказать эту историю, и мне не пришлось долго упрашивать.
Ляпунов снял шлем, приподнялся на локте, прислушался. Тихо. Очевидно, и другие летчики так же вот отлеживались в шалашах или под плоскостями машин, спрятанных у самой границы леса. Ляпунов лег на спину, вытянувшись вдоль крыла, подложил руки под голову и, помедлив, начал рассказ:
— Воюю я давно и немало потерял товарищей с начала войны, но ни одного из них не проводил до могилы, ни с кем не простился напоследок, как полагается. Ничего не поделаешь, такая у нас, у истребителей, судьба. Придешь после полета в землянку, а рядом — пустая койка. Висит комбинезон, полотенце тут же, зубная щетка еще не успела просохнуть, а хозяина нет, не вернулся из боя.
Вот так в один из дней прошлогоднего августа не вернулся домой Петр Кирпичов.