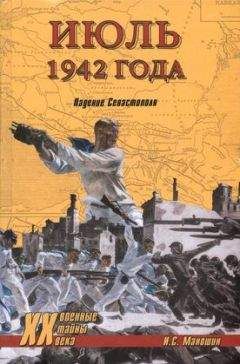Все более отчетливо шумели моторы. Скорее всего сторожевых катеров. Немецкий огонь усилился. Рвануло рядом с нами. Мне под ноги что-то упало. Опустив на миг глаза, я увидел по локоть оторванную руку. Кулак был крепко стиснут.
– Товарищ командир, товарищ командир, что же делать, что же делать? – услышал я женский голос, обращенный непонятно к кому. Я не ответил. Откуда мне знать.
– Добейте, ироды… – звучало с другой стороны. – Добейте, братцы… Не могу…
Наверху неожиданно началась перестрелка. Огонь был плотным, мы бы такого открыть не смогли. Похоже, воспользовавшись нашим уходом с позиций, немецкие автоматчики вплотную подобрались к батарее, ставшей, насколько я мог судить, командным пунктом целой армии и оборонительного района.
– Товарищи, в оборону, – раздался твердый голос где-то сзади.
– Пошли, – сказал я Хомченко и тем из своих, кто еще оставался рядом.
Пробиться назад, однако, тоже было невозможно. Сверху напирали новые толпы. По счастью, вскоре перестрелка стихла.
– Отбой, – распорядился я. Словно в ответ бухнуло два отдаленных разрыва.
А потом… А потом наверху громыхнуло так, что дрогнула под ногами земля. Я бы упал, но в стиснувшей нас массе падать оказалось некуда. Хомченко судорожно вцепился мне в локоть. Рядом, разинувши рот, что-то кричал краснофлотец – но крика его я не слышал. Небо побагровело, сделалось невыносимо светло. Немецкая артиллерия растерянно умолкла.
После сверху долго сыпался песок. Плотной тучей оседала пыль. Меня одолел безудержный кашель. Захотелось надеть противогаз.
– Господи, что это? – услышал я все тот же женский голос. Хотел обернуться, но не успел.
Потому что… Наверху громыхнуло опять. Еще сильнее – или мне показалось? Многие не удержались на ногах, повалившись друг на друга. Ненадолго сделалось ясно как днем. До меня дошло – рвут башни батареи. Немцы, сообразив что к чему, возобновили огонь. Он сделался значительно сильнее. Сразу несколько снарядов разорвалось у нас за спиной, среди рядами стоявших грузовиков. Заполыхав, те обеспечили постоянное освещение.
– Кажись, каюк… – услышал я голос Хомченко, шедший откуда-то снизу. Схватившийся руками за грудь и за живот красноармеец полулежал на земле. Словно прилег отдохнуть. Я быстро нагнулся, чтобы помочь. Он дернулся и затих.
Мы были знакомы с ним целые сутки.
* * *
– Товарищ капитан-лейтенант! Вы тоже тут? Живой, здоровый? Счастье-то какое!
Голос был радостным. Надо же, кто-то был рад, что я всё еще жив и здоров. Я обернулся и увидел Лукьяненко, ротного старшину и командира второго взвода. Невероятно, но факт, родная усатая морда. Сколько же я с ним, подлецом, не встречался? И не припомнить. Меня ранило недели три назад, но, кажется, прошло больше года.
Шум у уреза воды усиливался. Немцы продолжали забрасывать бухту снарядами. Пулеметные очереди врезались в обрыв. Нас обдавало пылью и мелкой крошкой.
– Во, видали, что деется? – говорил мне Лукьяненко, торопливо глотая слова. – Командование-то на Кавказ, слыхали, свалило, а мы-то тут загибаемся. Вы-то сами-то как? Почему не в списках-то? Начиная с капитана все по списку эвакуируются.
– Нормально. Какие, к черту, списки? Есть тут кто из наших?
– Да я-то не знаю, откуда мне знать-то. Нас как покрошили на Братском кладбище, так я с тех пор с кем только не был. Слышал только, что Старовольский-то наш с Шевченко где-то на Лабораторном храбро окопались. Так оно когда еще было.
«Храбро окопались». На редкость гадкое было у моего старшины помело.
– Про Лабораторное знаю. Еще что-нибудь слышали?
Я так и не научился говорить ему «ты».
– Не, откудова мне. Да что с ими сделается, товарищ капитан? У Мишки вашего голова на плечах еще та, а Старовольский, он тоже парень шустрый. По-германски знает. Надо будет, так и с немцем сговорится. Не то что мы с вами, простые советские люди.
Среди скопления машин рванула канистра с горючим. На усатой физиономии задергались багровые блики. Сделалось невыразимо тошно.
– Старшина Лукьяненко, – сказал я, поглядев на пистолет, – или вы заткнетесь, или я вас пристрелю.
Он обиженно пожал плечами и насупил свое мерзкое мурло.
– Да что с вами случилось, товарищ капитан? Я же ж к вам со всей душой. А вы. Эх, люди…
Он растворился в тысячной толпе, и больше его я не видел. Одна из самых ничтожных моих потерь.
* * *
Немецкий обстрел поутих. Но шума меньше не сделалось. У уреза непрерывно рокотали голоса. Потом, невдалеке от невидимого из ложбины рейдового причала, вдруг затрещали выстрелы. Били из автоматов, наших, «ППШ», очередями и одиночными.
– Что там, господи? – снова услышал я знакомый женский голос. Скосив глаза, увидел пигалицу в пилотке. Детское испуганное лицо, расширенные глаза. В зрачках плясало пламя горевшей поодаль полуторки.
– Сам не знаю, – бросил я. – Да ты не бойся, дурочка.
– А я не боюсь. Диверсанты?
Слово «диверсанты» она произнесла с бодрой, почти утвердительной интонацией. Дескать, может предположить и такое. Но не боится. Только скажите ей точно, скажите, что происходит. Потому что она ничего тут не может понять. Потому что ей страшно, она одна. Но она не боится ни диверсантов, ни чертей, никого. Только скажите, пожалуйста, ладно?
Я подумал вдруг о Ленке и Володьке. Я не думал о них сто лет. Как минимум с позавчерашнего дня, когда не съехал еще с Фиолента. Огромное заблуждение полагать, что человек на войне только и делает, что думает об оставленных близких. Если бы так, то когда воевать? Володька окончил свой первый класс. Ленка…
Крики звучали всё громче. Ни разу я не слышал столько отчаяния в многоголосом человеческом вое. Мольба, призывы на помощь, предсмертный яростный хрип. Перекрывая их, прогремел усиленный мегафоном голос:
– Посадка невозможна. Всем отойти от причала. Посадка невозможна.
Меня дернули за рукав. Я поглядел. Пигалица.
– Невозможна, да?
– В следующий заход, – неопределенно ответил я и в стиснувшей нас толпе неловко погладил девчонку по плечу. Она прижалась ко мне, еще крепче вцепившись в рукав. Надо бы было спросить, как зовут, какое звание, где служит. Где служила, если быть точным.
У причала сделалось чуть тише. Снова стало слышно урчание моторов. Но через полминуты оно было заглушено новой волной нечеловеческого крика и каким-то совершенно непонятным грохотом. Невидимый берег взорвался воплями и проклятьями. Произошло что-то ужасное и невообразимое. Затрещали выстрелы из винтовок и пистолетов. Последние патроны. Не по немцам. Куда? Зачем? На кой? Душу отвести? Или… Лучше не думать. Но не думать не получилось. Последний патрон – в себя?
Я взял девчонку за руку и твердо сказал:
– Пошли-ка, мать, пока не задавили.
– Ага, – пробормотала она.
Мы стали протискиваться наверх. Медленно, стараясь не оторваться друг от друга. Осторожно, но настойчиво работая локтями. Таких, как мы, уходивших от берега, было довольно много. По причине давки нас пропускали с трудом, но охотно. Стоявшим сзади, казалось – чем ближе к воде, тем лучше. Тогда как мы у воды побывали, пусть не у самой кромки.
В уши врывались обрывки коротких и злых разговоров.
– Немцы-то не стреляют.
– Чего им стрелять. Отдыхают.
– Ждут, когда мы сами себя передушим.
– Начальство удирает. По своим шмаляют, чтобы под ногами не путались.
– Ой шо там было, хлопцы… Причал обвалился. В воде месиво. Тонут, орут.
– В гробу я такую эвакуацию видел.
Стало просторнее. Я выбрал место возле кучки раненых и опустился на землю. Девчонка села рядом. Из-под оттянувшейся юбки выглянули острые коленки. Шерстяные латаные чулки, на ногах – смешные ботинки. В свете повисшей над нами ракеты блеснули змейки на петличках. Такие же, как у младшего сержанта Волошиной. У Марины. Где она, что с ней? В записке, полученной от Шевченко, ничего о Марине не сообщалось. Я попытался представить ее – и не смог.
– Медик? – спросил я, чтобы не молчать.
– Ага. Ефрейтор. А вы?
– Моряк. Капитан-лейтенант. Не видно разве?
Она простодушно улыбнулась.
– Нет. Армейское всё.
– Главное – морская душа на месте.
Оттянув немного планку гимнастерки, я показал ей край тельняшки. Не самый приличный жест, но она улыбнулась опять. Помолчав, призналась:
– Есть хочется. А вам?
– И мне. Сухарь погрызешь?
– Угу.
* * *
Оставив убитую утром девчонку – фугасный снаряд разорвался в пятнадцати метрах, – я присоединился к одному из формируемых сводных отрядов. Девчонку звали Женькой, мы успели познакомиться, она выросла в Кировограде.
Снаряд накрыл порядочный диаметр, осколками убило и ранило десятка два людей. Женьке повезло – она умерла моментально, без боли. Впрочем, откуда мне знать о том, что успевает почувствовать человек в последний свой миг на земле? Но лицо ее было спокойным, словно она на самом деле ничего не ощутила. Я прикрыл ее брошенной кем-то шинелью и снова подумал о Ленке. Счастье, что она в Новосибирской области.