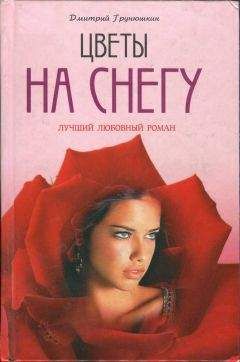К вечеру я вернулся в хату, где на постеленной на пол соломе мы собирались ночевать. За тридцать рублей я купил у хозяйки большой кувшин молока на ужин. И только отвернулся, как мои бравые асы Петя Киктенко и Миша Деркач подняли вокруг кувшина невообразимый шум, вплоть до драки. Выяснилось, что они конкурируют в борьбе за вершок — сливки, собравшиеся в горловине кувшина. Пришлось мне принимать Соломоново решение: я взял ложку и поболтал ею в кувшине, основательно перемешав молоко.
В конце марта 1942-го года на наш аэродром Клиновец, где мы совсем уже было наладили спокойную размеренную жизнь, внезапно нагрянула девятка «Ю-88», которые застукали наши самолеты сидящими на земле. На аэродроме в этот момент находилось штук двадцать «И-16», частично новых, частично после капитального ремонта на Воронежском авиационном заводе, полученных нами взамен «Чаек». «Юнкерсы» сыпанули бомбами на нашу стоянку и, удивительное дело, хоть бы один «Ишачёк» при этом пострадал. Бомбы, вырывшие воронки и перемешавшие землю со снегом, легли куда угодно, только не по цели. В этом смысле механик Мозговой оказался гораздо более опасным врагом нашей доблестной авиации, чем девятка «Юнкерсов». Никогда не знаешь в жизни, кто окажется твоим самым опасным врагом. Впрочем, как правило, это бывают свои. В тот день «Юнкерсам» не повезло еще раз. По маршруту движения бомбардировщиков — с севера на юг, зенитчики, прикрывающие наш аэродром, установили недавно полученные орудия мелкокалиберной зенитной артиллерии. Эти неказистые пушчёнки яростно плевались в небо тридцатисемимиллиметровыми снарядами — автоматическими сериями по пять штук. Это оружие оказалось чрезвычайно эффективным. Почти не было выпущенной обоймы, в которой хотя бы один снаряд не попадал в цель. Так и в тот раз: один из снарядов угодил в мотор «Юнкерса» и горящий бомбардировщик приземлился возле села Яблунево. Самолет сгорел, а экипаж был пленен.
Пригревало солнце, земля постепенно освобождалась от снега, и ясно было, что вскоре военная гроза снова забушует в полную силу. Судя по тону нашей пропаганды, наше командование было настроено воинственно и верило, что, получив кое-какую технику и пополнение, Красная Армия с наступлением весны пойдет вперед, громя врага. Это не совпадало с настроениями фронтовиков, которые чувствовали, что немцы по-прежнему очень сильны, отнюдь не собираются мириться с неудачей под Москвой, и обращаться с ними нужно крайне осторожно. К сожалению, в стратегическом плане взяла верх залихватская точка зрения, призывавшая наступать на противника, сторонником которой был и Сталин. Если бы наши войска к весне 1942 года организовали глубоко эшелонированную оборону и использовали накопленную технику в контрударах, то, как показал дальнейший опыт, толку было бы гораздо больше. По-моему, вся наступательная эйфория, охватившая наше высшее политическое руководство, да и часть командования весной 1942, объяснялась скорее страхом перед врагом. Видимо, наш Юго-Западный фронт продолжал считаться второстепенным, Сталин концентрировал лучшие войска неподалеку от Москвы. Поняв эту его слабость, немцы перенесли главный удар на юг. Об отношении к нашему фронту я могу судить еще и потому, что почти все пополнение, поступавшее к нам зимой и весной 1942 года, особенно в пехоту, состояло из дивизий, укомплектованных из жителей среднеазиатских республик. Трагедия этих людей — восточных дехкан, трудолюбивых, покладистых людей, со всеми свойственными им достоинствами и недостатками, явно не приспособленных к условиям современной войны, плохо обученных, не привыкших переносить суровые российские холода, — еще заслуживает отдельного описания.
В феврале 1942 года, засидевшийся без дела и без геройских подвигов командующий 21-ой наземной армии генерал-лейтенант Гордов, видимо, желая направить победный рапорт в столицу, задумал операцию местного значения — досадить немцам, перерезав железную и шоссейную дороги Обоянь — Белгород — Харьков, которые выполняли у немцев роль рокадной дороги. Операция с самого начала была обречена на провал. Было ясно, что немцы не примирятся с подобным вклинением в свои боевые порядки, и найдут способ срезать этот выступ местного значения. Но наши спецы, маршал Тимошенко во фронтовом масштабе, и, видимо, кто-то в Москве, поддержали инициативу бравого генерала. К фронту потянулись пехотные дивизии. Бесконечными колоннами шла среднеазиатская пехота, бойцам которой вся эта война триста лет была не нужна. Наступление должны были поддерживать несколько десятков танков Т-34, и американского производства, по-моему, «Матильда», тракторы перекатывали огромные емкости с горючим, сваренные в виде огромного перекатывающегося колеса, тянули кое-какую артиллерию. Эти ресурсы поберечь бы на весну, но, видимо, рассчитывали, что немцам воевать зимой несподручно. Может быть, так оно и было бы, не отличись бравые фронтовые шофера, порой весьма смахивающие на разбойников с большой дороги. Дело в том, что на станцию Новый Оскол к моменту наступления было подвезено несколько тысяч пар хороших черных, добротно вываляных, валенок. Эта обувь в ходе боев в зимние холода ценилась гораздо дороже любого оружия. Шоферюги, перевозившие валенки из вагонов в среднеазиатские дивизии, пользуясь безропотностью и плохим знанием русского языка их бойцами, да и многими командирами, умудрились пустить «налево» и пропить большинство этих валенок. Признаться, я был поражен, когда в селе Клиновец к нам стали стучаться в дверь избы, где мы, летчики, квартировали, пехотинцы-среднеазиаты, обутые в кирзовые сапоги и ботинки с обмотками. При морозе градусов 25-ть, зима выдалась холодная, это была верная смерть. Хозяин, старик Кривенко, вышел из избы и сообщил пехотинцам, что у него квартируют летчики и для пехотинцев места нет. Мы думали, что пехотинцы найдут себе другое помещение для ночлега, но в село вошла большая воинская часть, и все было уже занято. Солдаты, видимо, бывшие в состоянии глубокой депрессии, к которой прибавился восточный фатализм, принялись устраиваться во дворе под навесом — настлали соломы и пытались согревать друг друга теплом своих тел. Скоро хозяин обнаружил, что пехотинцы не шевелятся, а кое-кто из них уже и не подает признаков жизни. Он обратился ко мне, и мы с Мишей Бубновым, при помощи хозяина, принялись заносить среднеазиатов в избу. Мы настлали соломы на полу в крошечных комнатках и стали укладывать солдат штабелями. Через несколько часов они стали подавать признаки жизни, а к утру ожили. На рассвете к нам зашел их командир, русский по национальности, благодарил за то, что спасли его солдат, и сообщил, что человек пятьдесят пехотинцев из его части, так и не найдя пристанища, замерзли насмерть. И это без всяких боев. Я поинтересовался у одного туркмена, что он чувствовал, замерзая возле нашей избы. Он сказал, что ему было хорошо и очень хотелось спать. Так природа проявляет к замерзающим людям милосердие, которого они не находят у себе подобных. Такие вот были эпизоды в великом сказании о дружбе советских народов, которым нас десятилетиями потчевали.
Не лучше сложилась судьба и пехотинцев, которые остались живы той ночью. В лютую стужу, без валенок, разворованных шоферней, без особой артиллерийской и танковой поддержки, их бросили в атаку на немецкие пулеметы. Километров пятнадцать они наступали по глубокому снегу. Немцы подпустили их к железной дороге, в насыпи которой оборудовали хорошо спрятанные артиллерийские позиции, и положили в снег густым артиллерийским огнем. Среднеазиаты лежали в тридцатиградусный мороз, в глубоком снегу, без валенок, засыпаемые немецкими снарядами. Следуя своим религиозным правилам, они бросались ко всякому убитому, нередко это, очевидно, были родственники, и начинали молиться возле него.
Пунктуальные немцы, наблюдавшие всю эту картину в цейсовские прицелы и бинокли, сразу накрывали такие кучи артиллерийскими снарядами. Мало кто из тех пехотинцев вернулся с поля, которое назвать полем боя у меня не поворачивается язык, скорее поле массового убийства, главными авторами которого, как ни грустно говорить, были свои же. Невиданно жесток, даже без нужды, бывает русский человек к инородцам. А потом еще удивляется, что его не везде любят и привечают. Конечно же, наступление превратилось в массовое бегство, и вскоре наши войска отошли на прежние позиции, потеряв тысяч пятнадцать убитыми. Вот здесь и гадай, то ли жестокость и разнузданность, нередко свойственная русским, породила Сталина, то ли Сталин стал одним из ее творцов. После провала этого наступления, когда поступила кое-какая информация, в войсках был зачитан, тепло встреченный всеми, приказ Сталина № 0198, согласно которому все лица, виновные в хищении войскового имущества, что привело к срыву боевых операций, расстреливались перед строем. Так поступили с семью фронтовыми шоферами, толкнувшими налево валенки. Глубже ковыряться не стали потому, что наверняка пришлось бы расстреливать многих дядь в солидных воинских званиях, без участия которых такая крупная «Панама» была бы не под силу фронтовым шоферюгам. Как обычно, нашли стрелочников и исполнителей. А добраться до организаторов было не так просто. Кое-кто восхваляет строгость времен Сталина. Истинная брехня. Крупная рыба и тогда, если можно так выразиться, выходила сухой из воды. Сталинский приказ действовал до конца войны, и немало всякой мелкой рыбешки попалось на его крючок.