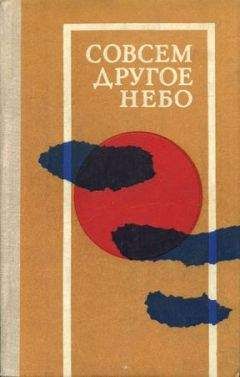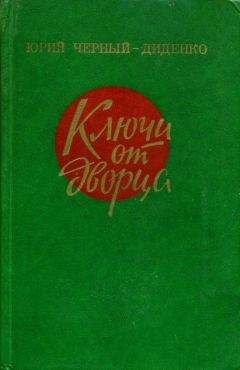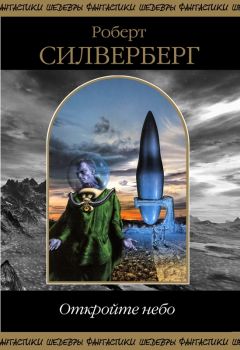Между тем доктор сел за стол и выписал какое-то лекарство. Он сказал, что ее зять обязательно достанет его. Потом доктор дважды повторил, как давать лекарство.
— Это… — искал он нужное выражение, — сильное лекарство! — Марциновой показалось, что он хотел сказать: дорогое. После минуты колебаний он добавил: — Должно помочь, обычно помогает… — И пошел в комнату, где лежал Гомбар. Вернувшись, сказал Катарине, делая ударение на каждом слове: — Похороните его как можно скорее… Лучше всего — еще сегодня ночью. Заплатите могильщику.
Это прозвучало то ли как предупреждение, то ли как предостережение. Катарину затрясло как в ознобе. Потом доктор уселся к столу и заполнил свидетельство о смерти Лацо Гомбара, написав, что тот умер от воспаления легких. Катарина заметила, что у него несколько таких бланков. Только теперь она поняла, как доктор рискует, находясь под их крышей. Поняла, что в опасности находятся и она, и мать, и Йоланка, пока не будет погребен Лацо. Собственно, речь ведь шла не об одном только Лацо.
Доктор ушел. Старуха Марцинова сцепила пальцы и умоляюще взглянула на небо, хотя прекрасно знала, что никто ей не поможет. Она чувствовала, что теперь, именно теперь, в эти дни, она особенно нужна здесь.
— Йоланка, иди сюда! Пойдем замесим хлеб. К нам придут тетя Магдалена, Саболчик, оба твоих дяди, священник…
— Нет, мама, никому не будем сообщать. Никого не будем приглашать. За священником я пойду сама. Надеюсь, он нас поймет. К могильщику тоже я зайду. Надо ему дать немного денег, чтобы он молчал. Он должен молчать… Какое-то время. Не знаю, как долго, но должен. Его можно уговорить. А вот священника… Не знаю. Но делать больше нечего.
— Я тебя совсем не понимаю…
— Я знаю, только как мне вам это объяснить?..
— Неужели я такая глупая?
— Нет, мама. Но это все совсем не так, как вы думаете. Лацо — партизан. Тот поезд с вооружением, взлетевший на воздух на прошлой неделе, — это его работа. Оружие до немцев не дошло. А поэтому… никто не должен знать, что случилось. Похороним его тихо, затемно, если поможет Пиханич.
— А Йолана?
— Я уже с ней говорила.
— Да?
— За нее нечего бояться.
— За меня тоже. Я не партизанка, но у меня есть голова и глаза…
С постели донесся стон. Старуха Марцинова подбежала к раненому.
— Ну что, милый? Как дела?.. — приговаривала она и положила другую мокрую тряпку ему на лоб. Все его опухшее лицо горело, только щелочки глаз стали больше.
Они в упор смотрели на старуху и, казалось, что-то говорили, жаловались. — Давай, давай, говори. Ты дома. Никто тебе не мешает. Не знаю, понимаешь ли ты меня. Говори, говори, только тихо. А я буду молиться, чтобы в дом не вошли немцы. Тебя надо куда-нибудь спрятать. За всех я в деревне ручаюсь, но за Бугая — никогда. Понимаешь меня? До сих пор я чувствую запах дыма от сгоревшей сторожки Гомбара.
Она поглаживала его по лбу. Он шире приоткрыл глаза, но на большее у него не хватило сил.
* * *
Уже неделю Гомбар лежал в земле. Пиханич хорошо помог. Он посоветовал Катарине не ходить к священнику. Обойдутся без него: чем меньше людей, тем лучше. И обиделся, когда она хотела ему заплатить. На кладбище она окончательно поняла, что стала вдовой и теперь будет нуждаться в милосердии, как хромой в костылях. Она с трудом осознавала это. До нее никак не могло дойти, что завтра с рассветом она не понесет корзину с хлебом и не услышит: «Подожди, Катарина! Скоро придет! Скоро!» и «Спасибо тебе, спасибо!» Она не могла поверить, что Лацо больше не придет, не снимет свою шляпу и не надвинет ее со смехом ей на голову, вместо того чтобы повесить на вешалку…
Катарина стояла у кровати и давала раненому лекарство, которое Саболчик принес из самых Михаловцев. Она давала лекарство терпеливо и осторожно, чтобы ни одна капля не пропала. Старая Марцинова, подойдя к дочери, сказала:
— Твоя тень больше, чем ты сама. Что у тебя с волосами? К чему это приведет?..
— Но, мама…
— Знаю, знаю, — понизила голос старуха и пошла стирать бинты. Через некоторое время она продолжила: — У тебя Йоланка. Не забывай об этом.
— Я ничего не забываю. А как же он? У него ведь никого нет! — возразила Катарина.
Она снова села к постели и задумалась: «Как же его зовут? Мне бы сразу стало легче, если бы я узнала его имя. Он бы слышал, как его кто-то зовет. Может, это и помогло бы, так как он почувствовал бы себя как дома. Ведь слово, как бальзам, может творить чудеса…»
К вечеру он заговорил по-русски. Медленно, отрывисто, но это были ясные слова, не бред.
— Ма-ма-ша… Моя ма-ма…
Катарина быстро нагнулась над пареньком, и из глаз ее наконец-то полились слезы. Она не могла их остановить, просто не могла, будто открылись колодцы, полные воды…
— Большое спа-си-бо.
Он сказал это очень тихо, но она все поняла. Катарина Гомбарова вдруг почувствовала, что может задохнуться.
— Ты… в моем… сердце, ма-маша. Понимаешь?
— Лежи спокойно, паренек, спокойно. Не двигайся. Все будет хорошо. Но для этого потребуется время, много времени. Понимаешь? И полетишь ты тогда, как сокол. Только сейчас не разговаривай.
Щелки глаз послушно прикрылись. Катарина держала руку паренька, боясь пошевелиться, так как ей казалось, что он уснул. В наступившей тишине Катарину начало клонить ко сну: ведь она не спала столько ночей. Забывшись, она увидела себя в сторожке. В кухне тикали часы с кукушкой. Они отстукивали бесконечность времени, этот длинный путь без начала и конца. Йоланка спала, а она дежурила у ее кроватки. Йоланка заболела первой детской болезнью, а она кипятила чай, прикладывала компрессы, шептала ласковые слова, которых никто до нее не произносил, но она верила, что это поможет.
Пришел Лацо. Он принес из леса галку и пустил ее на пол. Галка сразу почувствовала себя как дома и зашагала по кухне, как опытная хозяйка, которая хорошо знает, что ищет и что делает. На столе она нашла трубку Гомбара, взяла ее в клюв и стала поворачиваться с нею во все стороны. Потом птица обнаружила табак и начала им лакомиться. Йоланка села на постели и засмеялась. Ей сразу стало легче. Галка между тем, как клоун, откалывала номер за номером, и Гомбар, Катарина и Йоланка забыли, что в доме злая болезнь. Как давно это было? Десять лет назад? Или больше? Катарина никогда не считала годы. Она разделила свою жизнь, как хлеб, и раздала его повсюду, где он был нужен.
Как хлеб…
Около полуночи Катарину и всю деревню разбудил гул моторов. По шоссе по направлению к долине шла колонна машин. Она остановилась недалеко от деревни. Снаружи в дверь застучали чьи-то кулаки. Катарина так резко вскочила на ноги, что чуть было не упала.
— Это сосед Паловчик, — сказала Марцинова уверенным тоном.
Они открыли. Сосед был только в нижнем белье, весь дрожал и стучал зубами.
— Катарина! — проговорил он. — Немцы идут. Их очень много. Если они зайдут в деревню, то придут и к вам. Надо показать свидетельство о смерти… показать бумагу, а иначе они подожгут дома… Все… сгорим… погибнем…
Она перепугалась. Что-то в ней сломалось. А Паловчик продолжал давать советы:
— Или выдавайте парня за Гомбара. Все равно он ничего не узнает…
Он трясся от холода, страха и предчувствия того, что могут натворить гитлеровцы. Катарине стало ясно, что люди уже знают о партизане.
— Не бойтесь, вы не пострадаете из-за нас.
— Катарина, покажи им свидетельство о смерти…
Она кивнула и закрыла за Паловчиком дверь. Потом встала к окну и посмотрела на улицу, но ничего не было видно, только гул моторов, словно хищник когтями, раздирал душу.
Так прошло некоторое время, сколько — Катарина не знала. Она стояла в нерешительности, точно ожидая приговора. И вдруг вспомнила, как однажды ночью, когда немцы проходили мимо сторожки, в которой как раз спали восемь партизан, Лацо сказал твердо: «Всегда можно что-нибудь сделать. Меньше ли, больше ли, но всегда. Только трусы складывают в молитве руки и думают, что сделали все возможное».
Катарина дунула на свечу, переступила с ноги на ногу и быстро вышла в сенцы, направляясь к двери, которая вела на улицу. Она осторожно открыла дверь и высунула голову ровно настолько, чтобы осмотреть улицу. Ей с трудом удалось подавить страх. В лицо Катарине ударило несколько капелек дождя, пролетел испуганный ветер…
«Что делать? Что же делать?» — спрашивала она сама себя. Потом так же осторожно закрыла дверь, повернула ключ в замке на два оборота и для надежности задвинула большой деревянный засов.
В это время снаружи рефлекторы разрезали темноту ночи. Пучки света долго скользили по убранным полям и, как острые языки доисторических чудовищ, лизали всю окрестность. Из маленьких окон домиков настороженно смотрели испуганные глаза сельчан.
«Что делать? — мысли молоточками стучали в голове: — Убьют! Сожгут! Сгорят! Пропадут! Стоит им только увидеть русского солдата, как они теряют все, что у них еще осталось человеческого…»