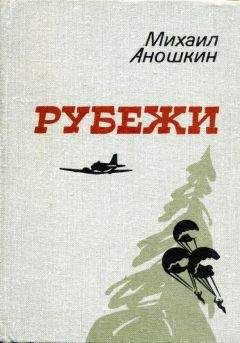Землянки, в которых нас поселили, были сооружены наспех, пропускали воду. А на дворе осень. Дождь лил и лил, как из худого ведра. В землянке сыро и высушиться негде. Спать ложились с содроганием. Солома на нарах отсырела, жиденькие матрасы хоть выжимай. Одеяла днем прятали под нарами, чтоб они не намокали, но тщетно. И там они впитывали влагу, как губки. Ложишься после отбоя в мокреть, закрываешься влажным одеялом, а сверху кладешь шинель. И дрожишь, как цуцик, пока не согреешься. А как согреешься, так и проваливаешься в дремотную бездну — спишь без задних ног. Рано утром подъем, а из сырой теплоты вылезать не хочется. Хоть и сыро, но тепло. А снаружи сыро и холодно. Но вставать надо, никуда тут не денешься. И как тут не вспомнишь маменькин дом, уютную постель, пуховую подушку. Бывало, если чуть прохладно, нагреешь одеяло возле железной печки и сразу укутываешься в него… Но дом далеко…
Поддерживала надежда. Сами строили казарму и столовую. Со стройки не уходили до позднего вечера, забывали про усталость. Командование понимало, что, не устроив быт солдат, не может приступить к боевой подготовке. На строительство были брошены все силы.
Из кыштымской братии составили роту. Народ мастеровой. Мои ровесники на гражданке многому научились, были среди них и плотники, и столяры-краснодеревщики, и кузнецы, и токари, и слесари. Успели в этих профессиях поднатореть. А пилой и топором орудовал каждый. Умели даже распиливать бревна на доски. А какая стройка без досок?
Командир полка, узнав про наших мастеров, специально приехал, чтобы подбодрить и напутствовать: товарищи, на вас смотрит полк, потому что постройка казармы — боевая задача номер один! И кыштымцы старались. На первых порах я тоже орудовал топором — затесывал бревна. Но командир роты, узнав, что я окончил педучилище и успел пообтереться в редакции районной газеты, счел за лучшее поручить мне политическую информацию и выпуск боевых листков.
Казарму построили-таки до морозов, торжественно вселились туда и после сырых землянок почувствовали себя в раю.
После новоселья командование справедливо решило, что времени упущено много и теперь задачей номер один становится обучение воинскому мастерству. Изучали матчасть, учились ползать по-пластунски, ходить строевым шагом, колоть соломенные чучела, стрелять по движущимся мишеням. Словом, проходили полный курс солдатских наук.
Часто нас поднимали по тревоге. Ночью в сонную одурь казармы врывается, как громовой набат:
— Тревога! Тревога!
Тут и мертвый соскочит. Одеваемся на ходу: на сборы даются считанные минуты.
Тревога — это поход на два-три дня. Как детские забавы вспоминались мокрушинские тревоги в педучилище. Здесь бросок километров за сорок, с короткими привалами, когда и отдышаться как следует не успеваешь. Шаг скорый, в темпе. Кое-кто не выдерживал, отставал. Спали в лесу или в поле, в дождь и снег. Одно спасение — костер. Да ведь так просто его и не разжечь, особенно в мокрую погоду и из сырых дров. Но находились специалисты и в этом — в любую погоду и при любых дровах мастерили такие костры, что небу становилось жарко. Спали возле костров и шутили: с одного бока петровки, а с другого — рождество. Прожигали шинели и гимнастерки, латали, если дыры небольшие. Бывало, лишь тришкин кафтан оставался, тогда старшина, поворчав для вида, выдавал другую обмундировку.
И не знали, что такое простуда, никто не заболел. Удивительно! Дома от такой жизни весь осопливел бы, в жар бросило бы, а тут хоть бы что! Очень уставали и не высыпались… Бывало, возвращаешься в казармы, еле ноги передвигаешь. Идешь, идешь, сознание мутится и вдруг отключается. Просыпаешься от того, что тебя за рукав тянет командир взвода. Батюшки, да ты отбился от строя и направился прямехонько в поле. Никто не смеется, у каждого подобное состояние, и командир взвода держится лишь на престиже. Он ведь не меньше, а, может, больше нас ухлопался. Мы в ответе каждый за себя, а он за всех. Ему сдаваться никак нельзя, не то что нам, первогодкам.
После финской кампании боевую подготовку максимально приблизили к условиям войны. Чтобы молодые бойцы понюхали пороха, пообвыкли, ввели боевые стрельбы.
Полк занимает рубеж на склоне обширного бугра. Приказ: окопаться. Земля — суглинок пополам с камнем. И запорошена снежком. Лопаточки маленькие, называют их — малые саперные. Земля неподатливая, времени отведено мало, а опыта никакого. Вгрызаемся в бугор как можем, слушаем советы ветеранов. На ладонях горят мозоли. Худо-бедно, но окопчики сварганили, лежать в них можно. Огляделись. Впереди, через лощину, такой же бугор, на нем установлены мишени для артиллерийской стрельбы. В лощине чернеет в снегу низкорослый кустарник.
Командный пункт расположен на вершине нашего бугра, на правом фланге. По военной терминологии это, конечно, не бугор, а высотка. Команда: занять боевые позиции. Артиллеристы и минометчики бегут к орудиям, что прятались в нашем тылу. Мы втискиваемся в окопчики. Тишина, но вот что-то гулко лопнуло, над головами раздался угрожающий шелест, а на противоположной высотке громыхнул взрыв. Брызнула в стороны серая земля. Ни одна мишень даже не качнулась!
— Мазилы! — весело кричат из окопа.
В воздухе завыло, заскрежетало, и взрывы потрясли кусты в ложбине. Снаряд шелестит, это стало понятным. А что же воет? Оказывается, огонь открыли минометы.
И пошло: за бугром ухало, над головой шелестело и выло, а на том бугре гулко вздрагивала земля, вскидывая черно-огненные фонтаны. Вот они, боевые стрельбы!
В своей роте я чувствовал себя как дома. Земляки! Не со всеми был знаком до призыва, но это неважно. В трудных условиях, в которых мы очутились, перезнакомились быстро. Одно сознание, что прибыли из одного района, уже сплачивало. Великое дело — землячество!
Но появился приказ наркома — всех, кто имеет среднее образование, свести в особую роту. Нас было трое. С Васей Козочкиным мы одно время учились вместе, а Юру Ржаникова знал потому, что отец его, Кирилл Германович, преподавал у нас в училище педагогику.
В новой роте мы с Васей очутились в одном отделении, Юрка попал в другой взвод. Козочкина назначили первым номером ручного пулемета Дегтярева, а меня — вторым. Классическая получилась пара. Вася — богатырь, наверное, не меньше метра девяносто, в плечах косая сажень. А я маленький и щупленький. Прямо Пат и Паташон. Вася носил пулемет на плече, как палицу. Мне досталась коробка с дисками. В ней, по-моему, умещалось три диска, набитых патронами. Потаскай-ка такую коробушку в руках во время марш-броска. Пальцы деревенели, переставал их чувствовать. Коробка не вываливалась на дорогу лишь потому, что пальцы не разгибались. Как только я ни ухитрялся облегчить свою участь, ничего не помогало. Даже поясной ремень приспособил, но эту малую механизацию сразу порушил старшина: как же, порчу бравый солдатский вид.
Но, пожалуй, труднее всех из нас было Юре Ржаникову. Щуплый и малорослый, как и я, в семье он был единственным сыном. Учился музыке, и поговаривали, что сочинял музыкальные пьесы. Я слышал, как он играет на скрипке. Юрку определили вторым номером расчета к станковому пулемету «максим». Тяжела пулеметная служба, и не дай бог стать вторым номером. Когда лежишь на позиции и подаешь ленту, это ничего, это жизнь сносная. Но когда затевается марш-бросок…
Наблюдал я однажды, как Юркин взвод возвращался с тактических занятий. Растянулся — устали солдаты. Это те, у которых на плечах только винтовки. Искал я глазами земляка, да так и не нашел. Куда же он подевался? Замыкающие прошли, вроде бы и ждать больше некого. Наконец, появился Ржаников. На плечах у него висел вертлюг, прижимал к земле. Юрка шел и шатался, вот-вот упадет. И такая жалость меня обуяла: вскинулся бы и побежал, чтоб помочь. Да нельзя. Юрка все же добрался до казармы. Выдержал. Потом выдержал второй раз. Втянулся, окреп, силой налился. А я мысленно сравнивал вертлюг и смычок скрипки. Умел человек извлекать из инструмента волшебные звуки. А вот таскал вертлюг, и в этом была высшая необходимость. В полковом клубе скрипки не было. Балалайка — пожалуйста. Барабан — сделай милость. А скрипки нет.
А служба шла. Два года, мечталось нам, пролетят быстро.
В особой роте готовили младших лейтенантов запаса. Но меня снова ждала неожиданная перемена. Вызвали в штаб полка и вручили мне и еще одному парню из другого батальона предписания явиться в Белосток, в распоряжение начальника военно-политических курсов. Старший лейтенант, вручивший нам командировки, сказал:
— Поедете на шесть месяцев. После курсов вернетесь в свой полк. Задача ясна?
— Так точно, товарищ старший лейтенант!
— Смотрите, чтоб все было в порядке. Не посрамите честь полка! Отбыть сегодня же. Поезд в восемнадцать ноль-ноль.
Шел февраль 1941 года.
2
Курсы располагались в центре Белостока. Улица узкая, кривая, выложенная булыжником, по которому особенно смачно цокали лошадиные подковы: цок, цок, цок. И гулко печатался строевой шаг, когда мы возвращались в казарму. Дом этот строился под какое-то учебное заведение. Предусмотрено было все: и спальни, и столовая, и классные комнаты, и актовый зал. А на первом этаже булочная. Утром завозили свежий хлеб, и потому снизу всегда обволакивал нас аромат хлебной выпечки.