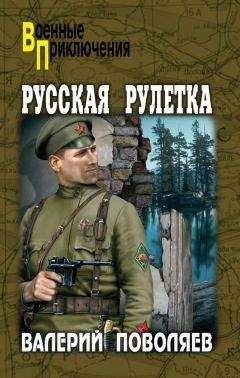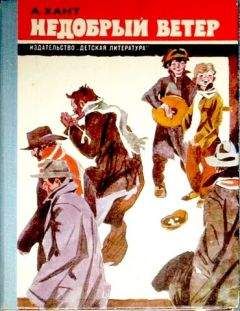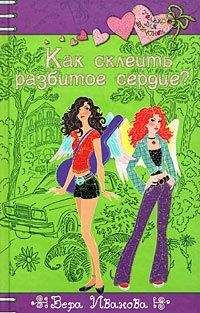А вот работа у них была разная — ничего схожего. Маша Комарова была так же далека от театра, как Питер от Одессы, — работала каким-то засекреченным делопроизводителем в одном солидном советском учреждении, умела хранить тайны и хорошо печатать на громоздком, громко трещавшем «ундервуде», похожем на настоящий заводской станок.
«Ундервуд» имелся у неё не только на работе, но и дома, когда она садилась за него, то от ударов свинцовых букв по жёсткой каретке тряслись стены у всей квартиры, поэтому вечерами Маша старалась не печатать — соседи могли рассердиться, тем более в доме появились новые жильцы — сердитые работяги с одной из мануфактур, революционные лозунги они освоили в совершенстве и чуть что, хватались за ломы. Орали так, что сбивали друг друга с ног одним только криком.
— Долой тяжкое наследие царского прошлого!
Маша Комарова этих людей боялась. Печатать тише, так, чтобы стены хотя бы не тряслись, она не могла, не получалось.
Вообще-то она была женщиной робкой, скромной. Аня удивлялась, как же она нашла в себе сил и храбрости вступить в «Петроградскую боевую организацию», задавала себе такой вопрос и ответа не находила.
Аня обратила внимание, что уходили члены женской группы из квартиры поодиночке, жались к стенке и, чтобы не привлекать к себе внимания, старались ступать беззвучно. Подав Ане шаль, Маша вновь уселась на скрипучий старый стул и положила на скатерть тяжело гудящие, натруженные, покрытые вздувшимися жилами руки:
— Устала, Ань… Ты даже не представляешь, как устала.
Аня вздохнула.
— Как раз я-то хорошо представляю. И понимаю тебя. Очень даже хорошо понимаю.
Маша склонила к подруге голову в неком доверительном движении, также трудно и сыро вздохнула, словно в горле у неё скопились слёзы.
— Куда катимся — неведомо, — проговорила она тихо.
— Хочется, Маш, чтобы жизнь наша сделалась полегче… Вот туда и надо катиться.
Замолчали. Было слышно, как в окно скребётся отсохшая ветка дерева, будто леший когтем что-то чертит, потом к этому звуку прибавился другой — послышался надтреснутый, с хриплым выхлопом рокоток автомобильного мотора. Машина шла медленно, останавливалась около домов, видно, шофёр читал номера домов на эмалированных табличках, прикреплённых к стенкам, искал нужный адрес.
Маша поднялась, подошла к окну, выглянула из-за занавески.
— Опять чекисты. И чего им тут надо? С кем-то борются, кого-то убивают, кого-то забирают… Иных просто вызывают к себе и — с концами, Ань, с концами… Когда всё это кончится, не знаешь?
Аня вместо ответа покачала головой: этого не знает никто. Может быть, только Всевышний?
Наконец, машина с прохудившимся двигателем перестала трещать — завернула за угол, назойливое, вызывающее зубной чёс пуканье, прежде чем угаснуть окончательно, ещё пару раз возникло в воздухе, всколыхнуло пространство и пропало.
Маша вздохнула надсаженно, прижала руку к груди и вновь села на скрипучий стул. Покачала неодобрительно головой. Аня подумала, что ведь и чекисты выполняют свою работу — ту, которую от них требуют: защищают свою власть, свою веру, свои завоевания… И было наивно полагать, что они будут вести себя по-другому.
Зла к ним Аня Завьялова не испытывала совершенно.
Опытный Шведов был калачом тёртым — продублировал письмо, которое послал в Финляндию с Введенским, и второе письмо попало в нужные руки — его прочитал человек, занимающийся организацией террористических актов в Советской России. Все знали его как Соколова, но вполне возможно, это был совсем не Соколов — окружающие подозревали, что он мог быть и Струве, и Репьевым, и Камергерским, и Бугаёвым, и Скотининым. Соколов всегда был невозмутим, чисто выбрит, пахнул хорошим парфюмом, который в бывшее Великое княжество Финляндское доставляли из Франции, глаза излучали холодный льдистый свет, неуютно становилось тому, кто попадал в лучи этого света.
Соколов прочитал послание дважды, потом положил его перед собою, разгладил ладонями, словно бы хотел понять, есть ли у этой бумаги второе дно, скрытый смысл, прячущийся под шифром, либо что-нибудь ещё, из потайного дна, спрятанное тщательно, ничего не нашёл и прочитал письмо вновь.
Строгое окостеневшее лицо озарила улыбка. Это хорошо, что в Петрограде появилась антисоветская организация. Да тем более боевая.
Соколов одобрил всё, что Шведов изложил в письме, в том числе и создание штаба, в который вошли бы не только различные замухрышки профессора, любители пощупать пальцами воздух, а потом выразительно чихнуть — это максимум того, на что они были способны, а и люди военные, офицеры, которые и атаку на противника умеют провести так, что у того только зубы от страха будут щёлкать, а в заднице полыхать скипидар, и оборону организовать толковую — ни одна муха незамеченной не пролетит… А главное, они не будут глотать слюни и ждать у моря погоды — эти люди будут действовать. Они умеют это делать.
Нет, это определённо толковая затея — «Петроградская боевая…» Надо подумать только, кого послать в помощь Шведову. Для начала — группу «эксов», умеющих нажимать на курок пистолета, потом вторую такую же группу и параллельно — группу мозговой поддержки, умных людей, словом.
Соколов не удержался, вновь просиял широкой улыбкой. Этот Таганцев вкладывает им в руки ценный подарок, кусок дорогого жёлтого металла — организацию эту, Петроградскую, можно раскрутить так, что у большевиков только красная вьюшка из их багровых носов полезет, начнёт в воздухе плавать… Не любил Соколов большевиков, очень не любил, потому и старался находить для них слова самые унижающие, чем хуже — тем лучше.
Поразмышляв ещё немного, он подготовил короткое сообщение в Париж, в главную контору структуры, объединившей белое воинское братство.
Шведову тоже сочинил ответную депешу со строгим наказом: пусть бывший подполковник сидит пока в Петрограде, помогает Таганцеву слепить из кучи разваренной каши нечто цельное, съедобное, способное понравиться начальству из Парижа. Соколов верил в талант Шведова: тот сумеет сделать не только это — сил у него хватит на большее.
И надо, конечно, в Петроград отправлять Германа, и чем раньше, тем лучше, вдвоём они там и гору высокую свернут, и русло для новой реки проложат, и власть красную заставят поволноваться. В общем, предстоит работа — настоящая, трудная, опасная, — работа, а не перекачивание воздуха из одного дырявого ведёрка в другое, из пустого в порожнее.
Надо было ещё раз обдумать ситуацию, теперь уже окончательно. Соколов натянул на себя белый стильный пыльник с застёжками под самое горло и вышел на улицу.
Улицы в Финляндии, в отличие от российских, чисты невероятно, ну просто удивительно, какие они чистые, — бродяги летом спят прямо на тротуарах и не требуют простыней, черепичные крыши цвета яркой сепии делают города нарядными, а сочные зелёные берёзы — совсем, как в России, — подчёркивают эту нарядность.
Соколов шёл неспешно, тихо, совершенно не замечая этой красоты, чистоты этой, погружённый в себя, — он будто сладкую косточку обсасывал, размышляя о предстоящей деятельности «Петроградской боевой организации», улыбка сама по себе, произвольно возникала на его лице и так же произвольно исчезала.
Неожиданно Соколов остановился перед низкой деревянной дверью, над которой висел кованый фонарь, — это был финский шинок и, поколебавшись немного, толкнул рукою дверь, разом погружаясь в полутёмный, очень уютный, пахнущий свечами зал. Из-за стойки выпорхнула девушка с большими голубыми глазами — настоящая фея.
— Тузи таг, фрекен! — поприветствовал её Соколов.
Девушка удивлённо глянула на посетителя: приветствие прозвучало по-норвежски, а здесь — Финляндия, по-норвежски здесь не говорят, хотя и понимают, спросила по-русски, очень чисто:
— Чего господину надо?
— Водки. Сто граммов.
— Водки из России у нас нет. Есть фруктовая водка из Германии. Шнапс вишнёвый…
— Давайте водку из Германии, раз русской нету. Сто граммов.
Девушка подала ему водку в изящном стаканчике с серебряным ободком. Соколов глянул на него и невольно усмехнулся: в России водку из такой посуды не пьют, крепкий напиток требует тару более грубую.
— Закусить чем-нибудь господин желает? — спросила девушка. Слишком хорошо она говорила по-русски, эта милая финская фея с изящными чертами лица — ну будто из фарфора была изваяна. Наверняка знает, о чём говорят соотечественники, когда приходят в шинок, все эти горластые матросы с уплывших из России кораблей и господа «штрюцкие», как Куприн называл людей сугубо штатских, к военному делу имеющих отношение примерно такое же, как неграмотные цыгане из кочующего табора к высшей математике и астрономии, — интересно знать, о чём толкуют и те и другие… Надо будет этот моментик взять на заметку.