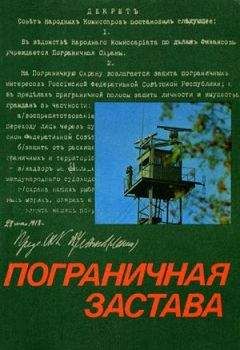— Выходи строиться.
Должно быть, он хотел свою власть показать. А ему столько же, сколько и мне, только он служит второй год и кончил школу сержантов. Подумаешь, начальство!
— Товарищ Соколов, вы что, команду не слышали? Повторить?
— Бегу, — сказал я. Просто мне никак не хотелось вставать с этой кровати. Значит, чаю не будет. Уже темнеет, сейчас боевой расчет. Как всегда, трое должны быть на прожекторе и возле дизеля. Один человек — на вышку. Там всегда один. Не поговоришь. На вышку идет Эрих Кыргемаа.
Басов — на кухню.
Головня от службы свободен, и я завидую ему острой и самой черной завистью. Мне бы сейчас завалиться в эту лунку на постели да рвануть минуток шестьсот: все тело ноет, будто меня долго и аккуратно били. Это оттого, что целый день мы перетаскивали с катера мешки, ящики, коробки — продукты, запчасти, гвозди, бидоны с горючим для дизеля, даже лопаты (зачем лопаты?) — и я здорово устал.
Ничего, переживем. Эриху на вышке будет хуже. Ветерок там будь здоров, и еще по дороге Эрих опускает «уши» своей зимней шапки.
— Итак, — говорю я Костьке, — начнем первый день из предстоящих нам четырехсот шестидесяти пяти.
— Лобачевский плюс Ковалевская минус Эйнштейн, — усмехается Костька, берясь за чехол, которым накрыт прожектор. — Вот станешь академиком, и будут о тебе писать: интересную юность прожил великий ученый.
— А что? — говорю я, берясь за чехол с другой стороны. — Не исключено. По теории вероятности.
— Скажи лучше — по теории невероятности. Снимай! Двери надо пошире открыть.
Прожектор стоит в гараже на тележке, а тележка — на рельсах. Выкатить эту махину на прожекторную площадку не так-то просто. Пришлось попыхтеть, пока окаянная не сдвинулась с места. Так будет каждый день. Зато к концу службы у нас нарастут мускулы, каку Василия Алексеева. Лучшей тренировки не надо.
— Слушай, а этот остров как-нибудь называется?
— Остров Пасхи, — отвечаю я. — Тот самый.
— Серьезно же спрашиваю.
— Мадагаскар.
Я не заметил, как подошел Сырцов.
— Остров называется Кузнечный, — сказал он. — А вы долго возитесь.
— Готово, отец.
— Рядовой Соколов, я вам не отец, а сержант. Ясно?
— Ясно, батя. Только не топочи на меня.
— Еще раз — и получите наряд вне очереди.
Мне вовсе не нужен наряд вне очереди. На кой он мне, да еще вне очереди? Мне становится скучно. Вот с таким-то сержантом служить до лета! «Ничего, — говорю я себе. — Перевоспитаем. Это он на первых порах выбивает из нас гражданскую пыль. Молодой начальник всегда, как новый пиджак: сначала топорщится, потом пообомнется».
Наша техника работает как часы. «Деды», которых мы сменили, здорово ухаживали за ней. Только «машинное», где находится дизель, начинает что-то подозрительно дрожать. Сырцов врубает ток, и из черного нутра прожектора сразу вырывается синее облако. Луча я не вижу. Надо отойти в сторону или опуститься ниже, чтобы увидеть его. Синее облако рвется вперед, в темное пространство, и теряется там. Луч ведет Костька. Он «кладет» его на воду, и теперь вода высвечена на несколько километров. В синее марево врывается похожий на корабль островок с мачтами-соснами. А потом снова вода с синими гребешками над волнами.
От кожуха тянет жаром. Луч меркнет медленно, словно нехотя забираясь обратно в прожектор.
— Товарищ сержант, разрешите доложить, техника работает нормально, нарушения границы не обнаружено.
Я, конечно, говорю это так, шутки ради, а Сырцов воспринимает всерьез. Потом он уходит к дизелю. Я слышу, как по мелким камням хрустят его шаги: хруп, хруп, хруп…
— Дает прикурить, а? — усмехается Костька.
— Все пройдет, как с белых яблонь дым. Я на своем веку всякого начальства повидал.
— Ишь ты! А вообще, брат, с таким хлебнешь… Дорвался до власти.
Конечно, Костька прав. У нас на заводе не очень-то любили тех, кто корчил из себя начальство. Но здесь не завод, и мне вовсе ни к чему наряды вне очереди.
Леня Басов приготовил наутро целый обед, и это просто здорово — съесть тарелку щей и жареной картошки, а потом чай, и наконец — в люльку. Костька засыпает мгновенно. А я еще долго устраиваюсь в люльке, и вдруг оказывается, что мне не уснуть. Никак не уснуть, хоть начинай, как в детстве, считать белых слонов: один белый слон… два белых слона… три белых слона.
* * *
Здесь, в спальне, темно, окна завешены, и лишь через щелочки пробивается серый дневной свет. Я не привык спать днем. Пусть здесь темно, но я-то знаю, что сейчас день, и что-то во мне бунтует против сна. Даже усталости словно бы нет, надо же так! А мне казалось, только коснусь головой подушки, и тогда с кровати меня бульдозером не стащишь.
Да, на улице день, вернее, рассвет. Мать и Колянич уже ушли на работу. Обычно мы уходили вместе и на улице расставались. У нас было правило: сначала подойти с мамой к метро, попрощаться с ней, а потом уже — на автобус. При этом Колянич неизменно говорил: «Вперед, рабочий класс!»
Рабочим классом я стал два года назад, после страшной домашней забастовки, которую не смогли подавить мать и Колянич. Я заявил, что хватит мне ходить в школу, надоела она мне хуже горькой редьки, и я больше не намерен протирать штаны на школьной парте. Все!
К этому были две причины.
С детства я слышал разговоры о заводе, о заводских делах, привык к ним. Друзья Колянича — такие же рабочие, как и он сам, — нравились мне очень. Потом я узнавал: один стал сменным инженером; другой — заместителем начальника цеха по подготовке производства; третий ушел на партийную работу; самого Колянича назначили мастером. Работал он на «Большевике» с шестнадцати лет. Почему же он мог пойти на завод в шестнадцать, а я, пай-мальчик, должен бегать в полную среднюю?
Вторая причина была, конечно, лишь поводом уйти из школы. Меня отвергла первая школьная красавица Лия Арутюнян, и я не мог этого вынести. Объяснение было на Лийкиной лестнице. Она стояла, поглядывая на меня с нетерпеливой тоской. Я сказал Лии, что люблю ее давно, еще с прошлого года. Она пожала плечами и ничего не ответила. «Надо поцеловать ее, что ли?» — подумал я. Но, к счастью, наверху хлопнула дверь, и кто-то начал спускаться по лестнице. Я ждал, когда старик с бидончиком доберется до первого этажа. Вот тогда поцелую. «Почему ты молчишь?» — спросил я. «А разве надо отвечать?» — сказала Лия. «Надо». — «Господи, — вздохнула она, — всегда надо отвечать…»
И я понял, что не первый говорю ей о любви, и не первый торчу здесь, на ее лестнице, и не мне первому пришла в голову мысль поцеловать Лийку. Только, может быть, другие оказывались смелее и удачливее меня. Стоило мне решиться, как снова хлопнула дверь, на этот раз внизу… «Я пойду, — сказала Лия, чуть поднимая мохнатые ресницы. — По алгебре много задали». Я не стал ее удерживать. Я сел на подоконник и просидел, наверное, час.
Наверное, час, потому что в десятых классах было на урок больше, чем у нас, девятиклассников. И через час на лестнице появился Ковалев — абсолютный чемпион района по шашкам среди юношей; длинный и белесый, как мороженый судак. Он поглядел на меня прозрачными глазами и спросил: «Ты курица?» — «Это почему же?» — «Лийку высиживаешь». — И, пройдя мимо, нажал кнопку Лийкиного звонка.
Потом, уже в школе, десятиклассники, проходя мимо меня, вежливо осведомлялись, что именно я высидел из того самого подоконника? Чемпион, оказывается, был еще и трепло. Мне не хотелось больше объясняться с Лийкой. Но я решил — хватит! Пойду на завод и буду учиться в вечерней школе, как все порядочные люди.
Когда я сказал об этом своим, мать начала ходить из угла в угол, охватив плечи руками так, будто в квартире трещал мороз. Впрочем, это не мешало ей говорить о том, что я хочу остаться неучем, и что у меня нет никакого самолюбия, и что я выбираю путь наименьшего сопротивления, потому что она точно знает — в вечерних школах требования не такие, как в обычных. Мама у меня всегда все знает совершенно точно!
— Погоди, — перебивал я ее. — А как же Колянич? Тоже неуч, да? Он когда пошел на завод?
— Было другое время, другие обстоятельства, — возражала мать. — Ему нужно было помогать семье. А ты сыт, одет, в тепле.
— …Отдельная квартира, телевизор, — подхватил я, — холодильник, пылесос, абонемент в филармонию.
— Как ты разговариваешь со мной?!
— Я не разговариваю, а перечисляю. Ты просто не хочешь понять, что я не ребенок и морально не школьник.
Во! Мне здорово понравилось это «морально не школьник». Сразил наповал. Мать даже остановилась и начала разглядывать меня так, будто видела впервые, и теперь пыталась догадаться, кто же этот парень?
Колянич хмурился. Потом выставил маму за дверь и спросил:
— Ну а по совести?
— Что по совести?
— Какая тебя муха укусила?