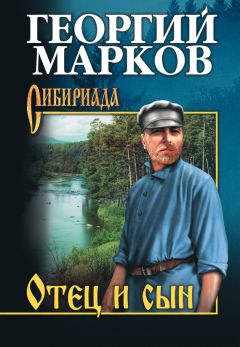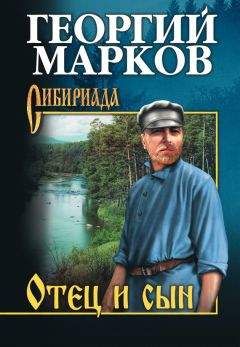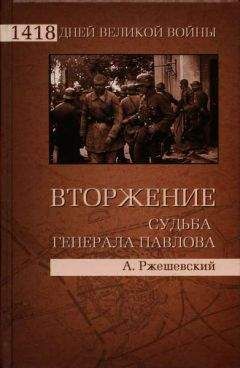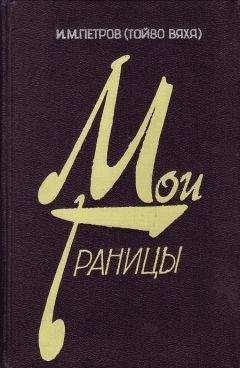Шлёнкин, все еще пребывавший в окопе, заслышав голос капитана и хлопки, поднялся наконец и непонимающим взглядом смотрел на товарищей.
— Ну как, Шлёнкин, сильно перепугался? — спросил без улыбки Тихонов.
— Вот нечистая сила, думал, сомнет, — под смех бойцов проговорил Шлёнкин.
— А хвалился-то как! Бочка есть бочка! — подражая Шлёнкину, баском сказал Егоров.
— Ну вот что, Егоров, — вдруг неожиданно жестко сказал Тихонов. — Соколкову запишите от моего имени благодарность, а Шлёнкина не выпускайте из окопа до тех пор, пока не научится встречать танк грудью.
— Есть. Будет исполнено, — откозырнул Егоров.
Бочка-танк между тем уже остановилась, и несколько бойцов, все из того же взвода старшины Наседкина, принялись выкладывать из нее серый булыжник.
Тут надо попутно заметить, что мысль об использовании бочки в качестве средства для обучения бойцов борьбе с танками пришла Егорову не сразу. Вначале он предполагал использовать ее лишь в качестве транспорта. Для обучения своих бойцов умению штурмовать долговременные огневые точки врага ему необходимо было выстроить дот. Дерева не хватало и на более неотложные нужды, связанные с оборудованием даже жилья, и он решил прибегнуть все к тому же серому, тяжелому камню.
В распадках камень был уже повыбран, когда сооружались землянки и склады батальона, а на вершинах сопок он лежал сплошным слоем. Но за морем телушка — полушка, и Егоров, не зная, как добыть этот «подлый» камень с верхушек сопок, начал присматривать залежи булыжника на старых местах.
Тут-то он и наткнулся у продсклада на старую бочку, осмотрел ее и решил, что она может навозить ему булыжника на целый дворец. Когда бочка честно принялась исполнять роль тяжеловоза, у Егорова мысль забила ключом и понесла его, понесла…
Четыре часа продолжались занятия по обучению бойцов борьбе с танками. Когда горнист просигналил обеденный перерыв, все изумленно посмотрели друг на друга, взглядами спрашивая: «Неужели обед? Не ошибка ли? Скоро что-то». Бойцы, увлекшись занятиями, не заметили, как миновала первая половина дня.
Тихонов приказал роту вести на обед, а командирам ненадолго задержаться на летучее совещание.
— Ну, вот что, товарищи, — сказал Тихонов, когда ротные и взводные командиры окружили его. — Занятия по борьбе с танками вполне удались. Отмечаю заслугу Егорова. Хорошо придумано. Отныне эту сопку именуйте, Власов, в приказах и расписаниях Танковой. Бочку, Егоров, из собственности роты передайте в собственность батальона. Примите ее, Власов, как учебное имущество. Синеокову и Королеву в ближайшее время провести такие же занятия со своими ротами. Кроме того, — усмехнулся Тихонов, — надо заснять эту бочку на фотографию и поместить в альбом истории нашего батальона.
Открытие батальонного клуба совпало с двумя значительными событиями. Одно из них было масштабов потрясающих, мировых. После ожесточенных боев на подступах к Москве Красная Армия обратила немцев в бегство. Каждый день Совинформбюро сообщало о новых городах, отвоеванных нашими войсками. Второе событие было местного батальонного значения, но тоже важное, вызвавшее много толков и тронувшее сердца всех бойцов. По приказу вышестоящего штаба батальону капитана Тихонова предстояло выделить в формирующуюся маршевую роту взвод лучших, хорошо обученных бойцов.
Таких бойцов теперь в батальоне было уже немало, и, посоветовавшись, Тихонов и Буткин решили отбор произвести по принципу добровольности, на основании личных рапортов. Но, как и можно было ожидать, ехать на фронт изъявил желание весь батальон. У Власова скопились две пухлых папки рапортов. Буткин перечитал их и, подозвав Тихонова, сказал:
— Ты послушай, Прохор Андреевич, что бойцы пишут. Ефим Демидков заявляет: «Отпустите на фронт. Душа истомилась. По ночам снится мне тятя, разорванный немецкими танками. Вижу я его как живого. Приходит он будто ко мне и все попрекает: “Когда же ты, сын, отомстишь им за меня и Леню?”».
— Ну, это бесспорная кандидатура, и выучка у него отличная, — проговорил Тихонов, и комиссар отложил рапорт в особую папку.
— А вот рапорт Прокофия Подкорытова: «На Халхин-Голе всыпал японцам по первое число. Немец тоже не каменный. Прошу…»
— Подождем. Этот может пригодиться здесь, — сказал капитан.
— «Немцы разоряют колхозы… Я, как особо приверженный к колхозной жизни, увидевший через нее свет в своей батрацкой доле…» — читал Буткин.
— Это Петухов? — спросил Тихонов.
— Он.
— Подождет. Слабоват еще в стрельбе.
— «Считаю своим святым долгом комсомольца быть там, где решается судьба Родины. Обещаю, что в бою не запятнаю имя нашего батальона. Викториан Соколков», — прочитал Буткин и вопросительно взглянул на Тихонова.
Капитан в задумчивости почесал затылок, убежденно сказал:
— Этому верить можно, а только тоже подождем. Молод.
— «Исходя из желания сражаться за Родину на западе и на основании вашего предложения…» — читал Буткин.
— Что это за канцелярист? Исходя да на основании… — проговорил нетерпеливо Тихонов.
— Шлёнкин.
— А, вон кто! Шлёнкин! Ну, этот пусть еще у нас в котле поварится. Бутылки и гранаты в танк метать научился, а стрелять не умеет.
— И вот послушай-ка, Прохор Андреевич, что Соловей пишет: «Категорически настаиваю на отправлении меня на фронт. Желаю принять непосредственное участие в освобождении от фашистской заразы моей родной области — Смоленской. Если будете препятствовать — убегу на фронт самовольно».
— Я вот ему покажу самовольно! Я вот его посажу на губу суток на пять, пусть он там кое о чем подумает. Ишь выискался гусь какой! Самовольно! Оставить! И пусть дисциплине научится! — разгневанно проговорил Тихонов.
Так в течение полудня Буткин и Тихонов перебрали все рапорты, отобрав взвод достойнейших, дисциплинированных, отлично натренированных бойцов…
Теперь эти бойцы сидели в первых рядах, проводя свой последний вечер в батальоне, с которым они успели сродниться за эти незабываемые, трудные месяцы.
Клуб, если можно назвать клубом продолговатую, низкую землянку, тускло освещенную двумя лампами, был набит до отказа. Люди сидели и стояли, плотно притиснувшись друг к другу. Одни из них сгибались, другие вытягивались, но каждый помнил, что он не в настоящем театре, что позади стоит товарищ.
Да, впрочем, неудобства, которые испытывали зрители, были сущими пустяками, и большинство их просто не замечало. В клубе царила атмосфера искренней праздничности и веселья.
После выступления Буткина, произнесшего теплое напутственное слово уезжающим на фронт, на сцену — обычные доски, настланные на три еловых сутунка, — вышел Шлёнкин.
— Начинаем концерт красноармейской художественной самодеятельности. Позвольте, прежде всего, от нашего коллектива участников выступления передать вам нежнейший сердечный привет, — с серьезным видом, чувствуя себя чуть ли не на сцене московского театра, проговорил Шлёнкин.
Зал аплодировал. Шлёнкин все с тем же серьезным видом переждал, пока стихнут хлопки, и отвесил в зрительный зал глубокий поклон. Ничего не скажешь, в роли конферансье Шлёнкин был хорош по-настоящему! Знать, недаром там, в «системе», доверяли ему руководить банкетами. Искусность Шлёнкина на этом поприще тотчас же заметили и оценили:
— Ну, черт, дает дрозда! — восторженно воскликнул кто-то из бойцов.
Шлёнкин внимательно посмотрел в зал, как всякий знающий свое дело конферансье, присматриваясь к публике и оценивая, каковы шансы на успех, и вдруг, совершенно артистически взметнув бровями, проговорил:
— Выступает Викториан Соколков. Стихи Константина Симонова: «Майор привез мальчишку на лафете».
Произнеся эти слова, Шлёнкин с достоинством удалился в угол сцены, а его место занял Соколков.
Стихи тронули слушателей, и Соколкова наградили такими дружными аплодисментами, что даже сдержанный, в силу своих особых обязанностей, Терентий Шлёнкин — и тот расплылся в довольной улыбке.
Еще больший успех ожидал Витю после прочтения поэмы Симонова «Сын артиллериста». Ему так бурно хлопали, что пришлось, по настоянию Терентия, три раза выходить на сцену и кланяться. Когда же Соколков, подстрекаемый все тем же Шлёнкиным, вышел в четвертый раз, кто-то крикнул:
— Да ты брось кланяться, стихи еще читай!
И тут Соколков откровенно признался:
— А стихов больше читать не могу. Не разучил еще.
Соколков повернулся, чтобы покинуть сцену, и лицом к лицу встретился с Терентием. Прозрачно-голубые глаза Шлёнкина выражали негодование. Он зашипел на Соколкова:
— Деревня! Вести себя на сцене не умеешь: «Не разучил еще…»
Сконфуженный и расстроенный выговором Шлёнкина, Соколков с большим трудом пробрался в зал и пристроился рядом с Егоровым, на петлицах которого отливали блеском только что нацепленные кубики.