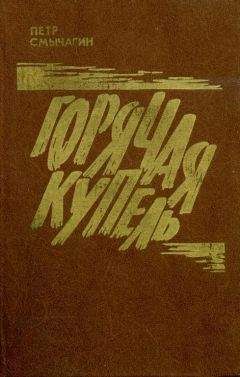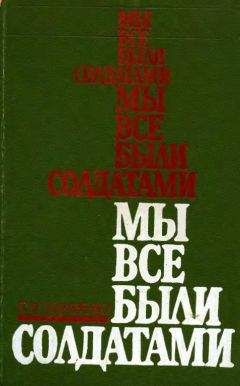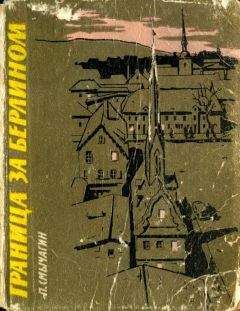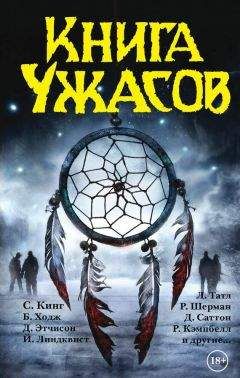Ну и пошло с тех пор. До вечера мы в окопе лежали. Солдаты над нами потешались, а нам вроде и легче, на душе веселее. А когда в госпиталь-то попали, там и сами друг друга так величать стали...
— Кажись, приехали, — улыбнулся Милый-Мой. — Деревня какая-то. Передние вон остановились.
Действительно, автоколонна сгрудилась в небольшой, совершенно опустевшей деревушке. Жители из нее бежали, видимо, за Одер. Дома почти не пострадали от артиллерийского огня, но запустением веяло отовсюду. Тут, видно, побывала не одна смена наших солдат.
Машина подвернула к крестьянскому дому с захламленным, грязным двором. Солдаты выбрались из кузова, сгрузили пулеметы, ящики с патронами, провизию.
Солнце разогнало утреннюю прохладу. Солдаты разделись по пояс, мылись. Только Милый-Мой, сбросив шинель и гимнастерку, сидел на бетонной ступеньке крыльца, греясь на приветливом солнышке. Его морозило, и он никак не мог отважиться снять нательную рубаху.
С улицы кто-то крикнул:
— Начальство едет! Командование!
Кто в чем был, так и выскочили за ворота. Одни — голые по пояс, другие — босиком, третьи — в ботинках на босу ногу, без обмоток. А Милый-Мой, — как был в пилотке, в нательной рубахе, не заправленной в брюки, с поясным ремнем в руках, — так и вышел на улицу.
Несколько легковых машин небольшой колонной друг за другом двигались на малой скорости, так как вся улица была заставлена грузовиками, пушками, тягачами.
В первой машине рядом с шофером сидел маршал в мундире при всех регалиях. Он величественно окинул суровым взглядом толпу солдат у ворот крестьянского дома и, не поворачиваясь к спутникам, проговорил недовольно:
— Вольница Рокоссовского! Партизаны!
В следующей машине на заднем сиденье, сдвинув ее лба фуражку, распахнув полы кожаной куртки и откинувшись на спинку, сидел моложавый, но не молодой человек с бледным от бессонной ночи лицом.
Солдаты и без знаков различия узнали в нем своего командующего — маршала Рокоссовского. Голые моментально спрятались за одетых, солдаты без головных уборов вытянулись в струнку. А Милый-Мой, стоя в переднем ряду в распущенной нательной рубахе, поспешно поправил пилотку, лихо вскинул руку к виску и замер в приветствии столь высокого командира. И, кажется, именно ему маршал кивнул головой и улыбнулся, покосив глазом, будто сказал: будь здоров!
Машины прошли, оставив после себя поднявшуюся тучку пыли.
— На рекогносцировку поехали, на рекогносцировку, — послышалось от ворот. — Фронты, вишь, здесь соединяются!
Возвращаясь во двор, солдаты оживленно говорили о столь необычной встрече с командующими фронтами.
— Гляди-ко ты, — удивился Крысанов, — от самого Дона по фронтам мотаюсь, в госпиталя на отдышку не раз уходил... Уж вроде бы все дороги искрестил, а ни с одним командующим видеться не приходилось. А тут — на тебе — сразу два!
— Этот-то, наш, видать, простой человек. Даже и не узнаешь, что командующий фронтом, — заметил Жаринов.
— Душу солдата понимает лучше любого доктора, — сказал Милый-Мой. — Маршал-то посмотрел на меня, все понял и даже улыбнулся.
— Как-то еще не расхохотался, — сказал Оспин. — А следовало бы тебе всыпать, чтобы не лез на глаза командующему в таком виде.
— Поглядеть-то на него и мне ведь охота, — виновато ответил Милый-Мой, — а одеться-то уж не успеть было...
Ночью шестьдесят третий полк двинулся в путь. Известное дело, такие походы под носом у противника неприятны уже тем, что солдату приходится во всем сдерживать себя.
Даже команды не подаются вслух. И покурить на привале нельзя по-человечески — прячь огонек в рукав или накрывай пилоткой.
Безмолвные идут колонны. А от этого больше спать хочется, особенно перед утром.
Еще в первую походную ночь Милый-Мой высказал странную догадку:
— Не может быть, чтобы места так походили! Я ведь не дремал в машине: все как есть видел. По этой же дороге идем.
— У немцев все может быть. У них дома в городах, как ульи на пасеке, одинаковые, и деревни друг на друга похожи, и дороги не отличишь, — спокойно возразил Крысанов.
— По-твоему, Милый-Мой, назад мы идем, к Данцигу? — шепотом спросил Чадов.
— Назад и есть...
С ним никто не согласился. А Милый-Мой присматривался и все больше убеждался, что это та самая дорога, по которой они ехали на машине прошлой ночью. Он узнавал ее по завалам, сделанным немцами при отступлении. Наши войска разобрали лес только на проезжей части, чтоб не мешал движению.
Потом полк двигался по какой-то проселочной дороге. Через час выбрался на асфальт, но скоро снова свернул в узкую просеку.
Утром вышли на опушку соснового леса, остановились. Километрах в полутора от лагеря солдаты обнаружили деревушку, натащили оттуда соломы и завалились спать.
Вечером полк снова отправился в поход и шел всю ночь, задерживаясь лишь на коротких привалах. И опять Милый-Мой где-то узнавал дорогу, где-то не узнавал. Над ним посмеивались и говорили, что если ему верить, то еще через две-три ночи Данциг покажется.
Однако, когда утром полк остановился, все обратили внимание на то, что местность очень похожа на вчерашнюю.
Опушка большого соснового леса, впереди пустые, не засеянные в эту весну поля. Край их постепенно опускается вниз, и там виднеется неширокая издали полоса Одера. А далеко на северо-западе, будто в дымке, — город. Все это виделось и вчера.
Поставили палатки и побежали на разведку. И тут всем стало ясно, что Милый-Мой прав: ходят они много, а где-то по одному и тому же месту «кружают». Метрах в восьмистах от нового расположения полка обнаружили вчерашнюю стоянку лагеря. Тут уж солдату растолковывать не надо, сам поймет: прорыв готовится где-то в другом месте, а фашисту непременно показать надо, что главный удар замышляется здесь. Для виду маскируйся, а ему вместо одного солдата кажи пять либо десять. Вот и ходит полк по одному месту и показывает разведчикам фашистским одно и то же много раз.
Днем, после сна и обеда, солдаты усаживаются где-нибудь на полянке, и замполит ведет обстоятельный рассказ о боях на других участках, о том, как разворачивают второй фронт союзники.
— Союзнички, — ворчал после беседы Крысанов. — Ишь, помогать хватились! Все ждали, когда нас фриц доедать станет. Не вышло. Теперь норовят кусок пожирней отхватить. Гляди, как заторопились!
Вечером исчезли палатки, и снова полк двигался по дорогам — по тем же и совсем по другим.
На привале комсорг батальона Гусев появился в пулеметной роте. Еще днем он пробовал поговорить с Батовым, но тот отмалчивался, и Гусев не стал тревожить его. Однако и откладывать разговор тоже нельзя, потому что на днях должно состояться батальонное партсобрание. И если Батов решил подать заявление, то тянуть незачем.
Но, как заметил Гусев, с Батовым творится что-то не совсем понятное: ходит хмурый, на разговор идет неохотно.
— Ты думал, Алеша, о нашем разговоре? — спросил Гусев, шагнув за придорожную канаву и ложась на траву рядом с Батовым. Тот тянул дым из сигареты, держа ее в согнутой ладони. Низенькую молодую травку не было видно в темноте, но она ощущалась под руками и отдавала запахом той свежести, какую ни с чем не спутаешь.
— Думал, Юра... Все эти дни думаю.
— Думать тут действительно надо серьезно, — согласился Гусев. — На всю жизнь... И к какому пришел выводу?
— Крюков — коммунист? — не ответив, спросил Батов.
— Крюков? — значительно повторил Юра, морща высокий лоб. — Знаю, что он член партии.
— А разве это не одно и то же?
— В том-то и дело, Алешенька, что не одно и то же. Партийные билеты носили многие. Троцкисты, например, тоже были членами нашей партии. Но разве они были коммунистами? Крюкова, конечно, ни к каким троцкистам не примажешь. Это я так, чтобы понятно было.
— Ясно! — оживился Батов. — Но тогда что же он — для счета в партии или как?
Гусев задумался, сорвал травинку, искрошил ее, растер в, пальцах.
— А как бы ты назвал его главную отрицательную черту?
— Бездушие! — выпалил Батов. — Это ходячая инструкция или еще черт знает что. Был у нас такой в училище, начальник строевой части, Живым Уставом звали...
— Устав, Алеша, забывать нельзя, — перебил Гусев.
— Но ведь в уставе нельзя предусмотреть всех случаев, какие бывают в жизни! Разве может устав заменить живого человека?
— Согласен. Но почему ты заговорил о Крюкове?
— Видишь ли, Юра, прежде чем просить рекомендации, я перебрал в уме многих коммунистов, думал о них. И все это — хорошие люди. Конечно, есть у них какие-то недостатки, но это серьезные, честные, смелые люди, без мелочной трескотни. А вот на Крюкове я запнулся.
— Постой, постой! Ты рекомендации уже взял?