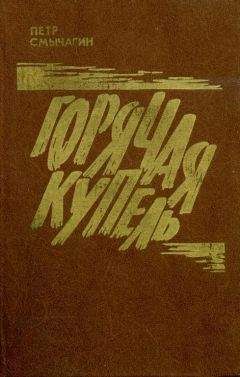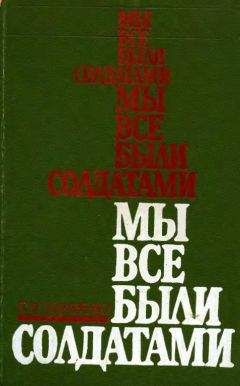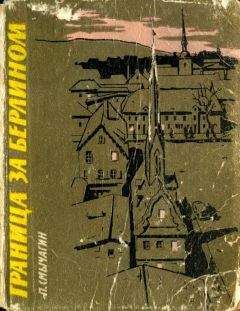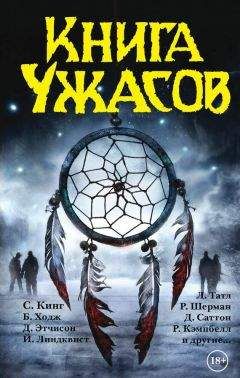Но вот на эстраду вышла певица в красивом вечернем платье, в туфлях на высоком каблуке. Открытое нежное лицо, вьющиеся светлые волосы и приятный мягкий голос заворожили слушателей:
Как бы мне, рябине,
К дубу перебраться...
С эстрады повеяло чем-то далеким и очень-очень близким душе каждого, домашним. Ох, как хотелось бы вдруг очутиться в родных местах! Батов глядел на певицу, не отрываясь. А когда она кончила и слушатели усердно аплодировали ей и просили спеть еще, Батов взглянул на Зину и почти рядом с ней увидел Верочку.
Что-то больно тронуло его за душу при виде этой сиротливо сидевшей девушки. Она больше походила на подростка. Забыв, кажется, обо всем, Верочка грустно смотрела на певицу. Большая пилотка сдвинута со лба и прикрывает на затылке завитки темно-русых волос. Гимнастерка потертая, выгоревшая на плечах до того, что белый подворотничок не очень от нее отличается. Простенький солдатский ремень, кирзовые сапоги.
Как это убого и жалко для девушки! Он попытался представить ее в ярком платье, в красивых туфлях, веселой и беззаботной. Но такое могло только присниться.
«На позицию девушка...» — неслось с эстрады, а Батов не слышал слов песни. Задумчиво смотрел то на Верочку, то на певицу, то на Зину... Из задумчивости его вывел назойливый звук. Оглянулся на сидящих рядом — они смотрят не на эстраду, а куда-то вверх.
— Рама! — послышалось из задних рядов.
Из-за Одера к лесу, к тому месту, где собрались люди, летел немецкий самолет. Он скоро приблизился и опустился очень низко. Из глубины леса послышались пулеметные очереди, а из самолета на лес посыпалась куча листовок.
«И пока за туманами...» — продолжала певица, испуганно поглядывая то на самолет, то на зрителей. Она словно просила у них сочувствия, поддержки. Голос ее, и без того ослабевший, заглушался ревом самолета. Теперь певица уже не казалась такой красивой.
И вдруг совсем рядом — Батов даже не сразу угадал Верочкин голос — полилось тонкое девичье: «Видеть мог паренек...». Верочку поддержала Зина. Тут же в песню начали вплетаться мужские голоса, и окончилась она мощным хором всех присутствующих.
Самолет развернулся и пошел обратно за Одер, а туча листовок, рассеиваясь в воздухе, становилась больше и больше. Некоторые листки снижались прямо над зрителями, падали на них и на эстраду.
— Читай — не хочу! — засмеялся кто-то из солдат. — Удобно! Прямо в руки от Геббельса весточка.
Листовка называлась: «Кровь, смерть, истребление!»
В ней гитлеровские пропагандисты пытались устрашить советских воинов тем, что за Одером у них — неприступные укрепления. Посылая солдат за Одер, коммунисты толкают их на верную гибель.
— Пугает, пес, — послышался тот же голос, — а сам боится. Были бы у тебя такие укрепления — бумагу не портил бы!
Концерт закончился, и тут же, пока люди не. разошлись, полк был выстроен для вручения наград. Грохотало, Дьячков и Батов стояли рядом впереди роты.
— Ну что, «Отечественную» получаешь? — спросил, улыбаясь, Дьячков у Батова, когда командир полка поздравил очередного награжденного.
— Младший лейтенант Дьячков! Дьячков! — понеслось по рядам.
Дьячков строевым шагом подошел к подполковнику Уралову. Получив коробку с орденом, козырнул и громко сказал:
— Служу Советскому Союзу!
Возвратясь на свое место в строю, он тут же привинтил орден Красной Звезды повыше гвардейского значка.
Награжденных было очень много, поэтому церемония вручения наград затянулась надолго. Но ни Грохотало, ни Батов не дождались вызова командира полка.
— Неужели он, прохвост, настоял на своем? — возмущался Седых, всегда отличавшийся завидной выдержкой даже в бою. Пока шли к палаткам, он не мог успокоиться. — Это же работа Крюкова! Я сейчас пойду к командиру полка!
— Не стоит, товарищ старший лейтенант, — возразил Грохотало. — Что мы, ради наград воюем?
— А ты меня не учи. Молод! Тут честь задевается. И не только ваша! — Так он никогда не разговаривал со взводными.
Седых запустил под ремень большие пальцы, разогнал морщины на гимнастерке, поправил пилотку и пошел в сторону штаба полка.
Возле палаток пулеметной роты стоял веселый гам: награжденные поздравляли друг друга. В середине большой толпы суетился Орленко. Его полное загорелое лицо мелькало между пилотками.
— Та шо з него возьмешь? — сокрушался он, держа в каждой руке по письму. — И больной, и хромой, и так никуда не гожий... Получай!
Усинский проворно схватил письмо и сразу пошел от толпы солдат к палатке. Лицо его теперь сделалось необычайно оживленным, умным, сосредоточенным. Оно преобразилось и совсем не походило на то, каким было всего несколько минут назад.
— А тебе, Боже-Мой, — заявил Орленко, — хоть очи нехай повылазять — не отдам. Плясать — и точка!
— Да я что, хоть в цирке спляшу, — вяло возразил Боже-Мой, поглядывая на письмо в руке Орленко. — Дак ведь без музыки-то что за пляска? Аконпанировать полагается. Дашь музыку — спляшу!
— Я те, друг, помогу, я тя выручу, — заторопился Милый-Мой, пробираясь к середине толпы. — Письмо-то читать вместе будем? А ну, шире круг!
Орленко увидел командиров, стоящих сзади всех.
— А ваше письмо, — сказал он Володе, — я передал тому... как его... Васе.
Милый-Мой достал расческу, натянул на зубья клочок курительной бумаги, приложил к губам, дунул. Послышалась не бог весть какая музыка, но все-таки это было лучше, чем совсем ничего.
— Вот это по-нашему, по-вятски! — одобрил Боже-Мой. — Под баян или там под трубу и дурак спляшет. А вот под расческу спляши попробуй!
Он вышел в круг, чинно раскланялся во все стороны, сделал вид, будто расправляет гармошку щегольских хромовых сапог, но кирза так и осталась стоять колом. Похлопал по голенищам, лихо топнул — хвоя брызнула из-под ног. И пошел по кругу, упершись руками в бока.
На твердом полу у него, видимо, вышло бы неплохо, но здесь пропадал весь эффект — дроби не получалось. И танцор больше всех понимал это. Пройдясь несколько раз по кругу, он начал скороговоркой подпевать, подделываясь под немудрящую музыку:
Я, говорит, тебя, говорит,
Давно, говорит, любила.
Я, говорит, тебя, говорит,
Теперь не позабыла.
Получилось лучше. Кто-то кричал: «Давай, давай!». И он «давал»:
Ты, говорит, ходи, говорит,
Ко мне, говорит, почаще.
Ты, говорит, целуй, говорит,
Меня, говорит, послаще!
Он еще прошелся вприсядку и, будто замахнувшись для очередного хлопка по голенищу, ловко выдернул письмо у зазевавшегося Орленко. А потом, разбросив руки и ноги, остановился в середине круга.
— Вот как наши-то пляшут! — и выскочил из окружения хлопавших в ладоши солдат.
Седых вернулся злой. Командира полка не застал: сразу после вручения наград Уралов уехал в штаб дивизии. Дело это вполне обычное, но под горячую руку подвернулся сам Крюков, и Седых не только высказал ему все накипевшее, но еще и нагрубил. Теперь мучился, сознавая, что делать этого не следовало, грубостью не поможешь. Но слово, как известно, не воробей, не изловишь его, коли уж вылетело.
— Я пойду на собрание, — сказал он Батову. — За тобой потом пришлю кого-нибудь. Прием, наверно, последним вопросом будет.
Володя, разыскав Валиахметова, взял у него письмо и полез в палатку читать.
Чтение писем с родины — это некое таинство. В такие минуты с особенной силой оживают те незримые связи, что навечно приковывают каждого человека к своей земле. Уединившись, солдат будто поговорит с ней.
Словно из глубины сна поднимаются и встают перед глазами далекие и очень близкие, родные лица, оживают полузабытые предметы домашнего обихода, иной раз такие, что хоть сто лет проживи дома — никогда не станешь о них думать.
Володе припомнились полумрак и прохлада домашних сеней, кадка с водой в углу и на ней — медный большущий ковш. Ручка к этому ковшу была приклепана другая, тонкая, и ею Володя пользовался всегда, когда уходил на вечерки. Он привязывал к дверному крючку шнурок и тонким, прямым, неумело сделанным концом ручки просовывал шнурок в щель над верхником, чтобы никого не тревожить, как вернется, открыть самому.
А возвращался он иногда перед утром, проводив до калитки Леночку. Теперь она в Москве, учится. И письмо не из дому — от нее, но вот, поди ж ты, вспомнился именно этот несуразный ковш, который мать собиралась каждую зиму выбросить, а весной снова чистила до блеска и клала на кадку в сенях.
И мать, наверное, совсем совсем седая. Седеть она начала, когда от отца пришла «похоронка». Володя был еще дома. Теперь и сам он давно на фронте, и младший братишка успел подрасти и тоже ушел на фронт. А в полупустом доме остались мать и сестренка, самая младшая. Работает она в колхозе вместе с матерью...