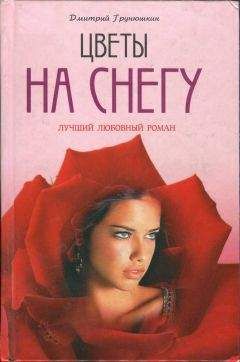Но не забывали о нас и настоящие самолеты противника. Как я понимаю сейчас, наши и немецкие войска, дерущиеся в Сталинграде, сошлись вплотную среди развалин города и вели яростные бои, в которых трудно было разобраться, где свой, а где чужой. Авиация, оставшаяся без работы, принялась пиратствовать по окрестностям города. Наведался бродячий бомбардировщик и к нам в Житкур. Я еще удивлялся — неужели у немцев столько самолетов, что им на фронте нечего делать?
В тот лунный осенний вечер летная столовая была полна ужинавшими авиаторами. Как я уже упоминал, в Житкуре ожидали команды на получение техники личные составы нескольких истребительно-авиационных полков. За отдельным столиком для старшего командного состава устроились три майора: Залесский, Панов и Соин. Мы калякали, расправляясь с летной нормой. Ничего особенного из себя эта норма не представляла: на ужин добрая порция гуляша с гречневой кашей и чай. Впрочем, вполне хватало. А на обед давали первое и снова гречневую кашу, мечту нынешних диетчиков, которая нам тогда изрядно надоела, с гуляшом или котлетой. Картошки было маловато, в Сталинградскую область ее возили с севера. Под шумок собравшегося в столовой народа, мы, командир, комиссар и начальник штаба истребительно-авиационного полка, о чем-то мирно калякали, по-моему, обсуждали боевые возможности «ЯК-1», который нам вскоре предстояло получать. И вдруг шум разговоров в столовой, сразу затихший, перекрыл мощный звук мотора немецкого бомбардировщика, прошедшего метров на триста высоты над самыми нашими головами. Я ясно представил себе, что в лунную сентябрьскую ночь мы, как на ладони, у этого гада проклятого, который нас и здесь достал. На разворот у бомбардировщика должны были уйти пара минут, за которые такое скопление народа в столовой выскочить из помещения все равно не успевало, и теперь судьбу бравых пилотов-истребителей четырех полков решал выбор цели командиром немецкого экипажа. Это весьма напоминало игру в русскую рулетку. К счастью авиаторов, собравшихся в столовой, и к несчастью солдата-пекаря, немцу почему-то показалась весьма заманчивой труба пекарни, из которой вылетали искры, и с первого захода он положил бомбу именно туда. Она вдребезги разнесла пекарню и убила пекаря. Из летной столовой, где скопилось более сотни человек, никто не выскакивал, бледные люди лишь напряженно смотрели друг на друга. Все мы были бывалые воины и понимали, что всякая суета в подобной ситуации может приблизить, а не отдалить смерть. Все решал случай, и он нас миловал. Немец, очевидно, наведенный своей разведкой, а может быть, и наводимый в эти мгновения с земли, каким-либо радистом, которого нам пеленговать было нечем, явно искал нашу столовую, к разгару ужина в которой он и пожаловал. Пекарня стояла в одном створе с нашей столовой, и их легко было перепутать. Никакие другие объекты немец не трогал, выискивая свою цель. Видимо, решив, что загоревшаяся пекарня это и есть летная столовая, он, для пущей гарантии, положил по створу, в которой она находилась, еще несколько бомб, одна из которых разорвалась метров за пятьдесят от столовой, где мы сидели, затаив дыхание, а другая метров через семьдесят с перелетом. Вздумай кто-нибудь из нас спасаться, выбегая из столовой и, залегая на улицах, весьма не исключено, что попали бы именно под эти бомбы. Ни один мудрец не знает, что такое хорошо, а что такое плохо, как писал Маяковский, на войне.
Во время всего этого бомбометания бедный Иван Павлович Залесский судорожно вцепился мощными руками в край стола, а при близких разрывах вдруг свалился с табуретки и на четвереньках пополз по полу. Я принялся его успокаивать, уговаривая и объясняя, что бомбы легли мимо, а Соин, скептически искривив свое полное лицо и прищурив глаз с подначкой, показывал большим пальцем на командира: мол, вон как перепугался человек. Я этой иронии не одобрял. Чтобы вести себя так, как Соин, следовало бы регулярно летать на боевые задания, подобно Залесскому, умеющему преодолевать свой страх смерти, естественный для человека. А если кому-то после прочтения этих строк все-таки станет смешно — никому не желаю пережить несколько минут, когда какой-то Ганс фактически является хозяином твоей судьбы и одним нажатием пальца на кнопку бомбосбрасывателя может перечеркнуть и твое прошлое, и настоящее, и будущее. Но мы остались живы, а это означало, что впереди новые бои.
Мы прооколачивались в этой переполненной авиаторами деревеньке две недели, и едва не потеряли здесь нашего начальника штаба майора Соина. Но об этом позже.
Каждый день я исполнял свои комиссарские обязанности: рассказывал людям о политической обстановке в стране и мире, знания о которых извлекал из газет, а больше толковал о боевых делах за минувшие месяцы войны, приёмах и тактике нашей авиации и авиации противника. Дело это серьёзное, ведь если разгадал замысел противника, то считай, наполовину выиграл. Особый интерес и оживление вызывали сообщения об ударах бомбардировочной авиации союзников по немецким городам. Наконец-то и немцам, у себя дома, здорово перепадало. Все диктаторы одинаковы: Сталин в голодные годы отнимал у народа хлеб и продавал или просто дарил кому-то за границей, задабривая «друзей», а Гитлер держал мощнейшие силы истребительной авиации у границ Азии, в то время как «Летающие крепости» расстилали бомбовые ковры среди немецких городов. Так что эти сообщения, как и американская тушенка, автомашины «Студебеккер», штабные машины «Виллис» и «Додж», уже начавшие поступать под Сталинград, «Аэрокобры» и «Кингкобры» — хорошие истребители, примерно равные по своим данным «Мессеру», и неудачные американские и английские танки, слишком высокие для серьезного боя, очень поднимали наш дух. Недаром наша пропаганда все послевоенные десятилетия так изощрялась, утверждая, что помощь союзников была сущим пустяком. Как фронтовик, могу подтвердить, что это отнюдь не было пустяком, как в материальном, так и в моральном плане для нашей, порядком упавшей духом, отступавшей уже не первую тысячу километров, армии. Там же в Житкуре, возле казармы я подошел к хмурому солдату-грузину, раскладывавшему небольшой костерок под подвешенным на самодельной треноге котелком. Солдат явно собирался внести какое-то разнообразие в свой скромный паек и норму. День был холодный и сырой — надвигалась осень, собранные дровишки упорно не желали гореть. Что-то ворча, солдат достал из сумки гениальное творение своего землячка и «великого вождя» — «Краткий курс истории ВКП(б)» в хорошем переплете и принялся выдирать страницы прекрасной бумаги, подсовывая их в костерок для растопки. Я совершенно обалдел от такого святотатства и гаркнул на грузина. Тот, не растерявшись, сообщил мне, что данный курс вряд ли уже пригодится — наше дело пропащее. Нет пророков в своем отечестве — Сталин в Грузии явно не пользовался таким подавляющим авторитетом, как в России. Очевидно, земляки лучше знали ему цену. Конечно, можно было написать донесение и упечь солдата-грузина в лагеря лет на десять. Но это было вообще не в моем характере, кроме того, высказывание солдата забредало и ко мне в голову, как я ни гнал эти мысли прочь, да и наступившие вскоре бои должны были показать, кто чего стоит. На моих глазах десятки людей, которым можно было приклеить ярлык «антисоветчиков», дрались и умирали геройски, а коммунистические жрецы, с пеной у рта защищавшие «идеалы», отсиживались по землянкам, употребляя водочку и развлекаясь с женщинами. Я плюнул и пошел дальше, а грузин спрятал остатки гениального творения на следующую растопку.
Не знаю, почему, я твердо был уверен, что на войне останусь жив. Возможно, это объяснялось тем, что совершенно не боялся противника в воздухе — был уверен, что на равных выйду с любым. Еще очень отвлекала от дурных мыслей моя роль комиссара, которую я понимал, как роль человека, который должен показывать пример, приободрять и поднимать боевой дух других. В этой роли, а я старался выполнять ее на совесть, хотя не имел никакого политического образования, меньше думаешь о собственной судьбе. Возможно, оно было и лучше, напичканные коммунистической премудростью политработники сразу будто создавали какую-то стенку из своей напыщенности и невнятного глубокомыслия между собой и людьми. Можно всякое говорить о комиссарах и замполитах на фронте, но у меня осталось ощущение того, что в эти годы я был нужен в полку не только как пилот, но и как духовник, пусть коммунистический, но ведь это была тогда наша общая религия, а другой не было.
Позволю себе перенестись во времени. В отличие от фронта, уже в мирное время, вся эта политработа меня порядком тяготила. Чувствовалось, что люди внутренне не верят во все это коммунистическое «му-му». Я скучал по самолетам, но приходилось долгими часами талдычить, порой не совсем самому ясные или убедительные, догмы марксизма в их вульгарном изложении скучающим людям. Для тех времен характерен случай с Митрохиным — Героем Советского Союза, командиром одного из полков четвертого реактивного центра в поселке Разбойщина Саратовской области, где я был в конце сороковых, начале пятидесятых годов начальником политотдела — почетная, генеральская должность. В мои обязанности входило проводить политзанятия и вести марксистско-ленинскую подготовку со старшим командным составом, куда входили командиры полков, их заместители, начальники штабов и начальники спецслужб. Я доставал пожелтевшие конспекты и с обычным вдохновением пытался вталдычить в авиационные головы глубинную мудрость ленинских работ: «Шаг вперед, два шага назад» или «Что делать?». Главным Политическим Управлением — ГлавПуром программа составлялась так «мудро», что эти самые работы изучались с началом всякого нового учебного года. Мои слушатели каждую осень бодро интересовались: «Что, Дмитрий Пантелеевич, — пошагаем?» И мы шагали. А вот Митрохин, судя по его уверениям, полюбил работу «Что делать?». Я заметил, что этот лихой фронтовой летчик, а ныне командир полка всякий раз на марксистско-ленинской подготовке занимает место в уголке дивана и стоит мне открыть конспект, как он сразу засыпает. Это было бы еще полбеды, но Митрохин обычно громко храпел при этом, отвлекая моих слушателей от познания глубины мудрых ленинских мыслей. Сначала я терпел, давая возможность Митрохину укрепить нервную систему, да и неудобно было будить Героя Советского Союза и командира полка, но постепенно Митрохин обнаглел и храпел такими руладами, да еще с присвистом, что терпеть подобное далее было просто невозможно. Когда Митрохина разбудили, он сначала испуганно подскочил: «Что?! А! В чем дело?» А потом, протерев глаза, принялся объяснять, что провел бессонную ночь над конспектом ленинской работы «Что делать?», готовясь к выступлению на семинаре. Митрохин смотрел на меня ясными глазами, и от него очень явственно тянуло перегаром.