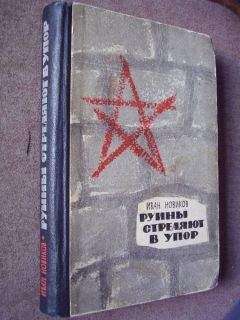«…4 апреля убито и ранено более пятисот человек».
Стыла кровь.
Иван Михайлович размышлял: «Давно не писал своим… Если бы Ленин был сейчас в России! Если бы! Знает ли он о ленских злодеяниях? Какая чепуха, конечно же, и в Париже он узнает все немедленно. Родным писать я о Лене не могу… Но они там, в своем Верхотурье, знают ли?»
Как-то в обеденный час в магазине, как это часто бывало, остались Малышев с Бариновым. Их работу прервал вояжер из чайной фирмы «Высоцкий и К°». Он вбежал в магазин и заметался, бестолково, испуганно твердя:
— О, мой боже! Спасите… спрячьте!
На Царской улице раздавались крики, свистки.
Иван, не раздумывая, схватил вояжера за руку и увлек в товарный отдел. Баринов опередил их, открыл громадный полупустой шкаф.
Вояжер, даже сидя в шкафу, продолжал твердить:
— Спасите… я — еврей… они гнались… — и бормотал молитвы.
Шкаф закрыли на ключ. Малышев постучал в створку и приказал:
— Перестаньте молиться, чтобы вас не слышно было!
Когда погромщики вбежали в магазин, Малышев и Баринов сидели, углубленные в работу.
— Сюда никто не входил?
Иван замер: как-то поступит бухгалтер? Пауза затянулась. Наконец Баринов оторвал взгляд от толстой бухгалтерской книги, удивился:
— А кто войдет? Сейчас обеденное время.
«…4 апреля 1912 года на реке Лене убито и ранено…»
Ленин уже писал, что в ответ на народное возмущение царское правительство намеренно разжигает национальную рознь. Бедного тихого еврея надо травить, как собаку, только потому, что на реке Лене… для того, чтобы гнев народа двинуть в другую сторону!
Остаток дня длился бесконечно. Когда кто-нибудь из конторщиков направлялся в товарный отдел, Баринов с Малышевым тревожно переглядывались.
Вошел жандармский ротмистр Чуфаровский, который в магазине Агафурова пользовался скидкой, платил за товары вместо рубля — гривенник.
Пока продавцы обслуживали его, Баринов и Малышев сидели оцепенев.
Ночью вояжера фирмы «Высоцкий и К°» проводили на вокзал, посадили в поезд, идущий в Омск.
Приближалась пасха. В магазине Агафурова торопились провести учет. А когда магазин был закрыт на пасхальную неделю, Баринов пригласил Малышева поработать у него на дому: осталось подсчитать товарные описи.
В тихой уютной квартире пахло куличами.
По стенам столовой развешаны пейзажи кисти самого Баринова. Это напоминало квартиру Кирилла Петровича в Перми.
Жена Баринова, холеная красавица, лениво объяснила:
— Коля очень любит живопись. Пишет маслом, иногда акварелью. Я очень рада: только бы не увлекался политикой… Учение о социализме сейчас модно…
— Только модно? Учение о социализме дает человеку надежду освободиться от рабства.
— Но это учение дает человеку скитания и тюрьмы. Пусть лучше занимается живописью. Искусство украшает жизнь, успокаивает умы, — заключила Баринова, а в больших карих глазах ее мелькнуло смятение.
«Не очень что-то оно успокоило твой ум», — подумал Малышев и спросил:
— Чем же успокаивает умы и украшает жизнь искусство?
— Красотой, — последовал ответ.
— А может, наоборот, не успокаивает, а не дает застояться? — осторожно спросил Иван Михайлович.
Женщина внимательно выслушала его, протянула раздумчиво:
— Пожалуй! Слышишь, Коля, что говорит Иван Михайлович? Да вы, сударь, очень развиты. Где вы учились?
— По тюрьмам, — спокойно отозвался Малышев и улыбнулся, увидев, как женщина отпрянула он него. — И простому конторщику может быть ясно, что искусство должно служить народу не только красотой. Оно должно быть доступно и нести правду.
— О чем?
— О жизни. Вот репинские «Бурлаки»…
— Ах, оставьте, Иван Михайлович. Репин слишком прост! — Она смолкла и посмотрела на мужа кротко и нежно.
…Город спал, слившись с ночью, молчаливый и темный. Однако чем ближе к реке, тем больше нарушалась тишина. Баринов направился проводить сослуживца. Шли медленно. Присели на длинную некрашенную скамью на высоком берегу Туры. Баринов сказал извиняющимся голосом:
— Жена напугана репрессиями в городе…
Река уже вскрылась. Началась навигация. Шныряли, свистя, буксирные пароходики, освещенные огнями. Много их стояло у пристани.
На фоне ночного неба видны стены кремля-монастыря.
— А вы, Николай Иванович, что же, сочувствуете рабочему движению?
— Сейчас многие ему сочувствуют. Я — бухгалтер, у меня свое дело. Да и жена… ей все чудятся враги…
«Наденька, опять Наденька, взявшая жизнь еще одного человека!» — подумал Иван.
— Не иметь врагов! Это еще не значит, что жизнь у всех идет в мире… А ради чего вы решили спасти еврея-вояжера?
— Ради себя…
Малышев не понял:
— Как?
— Ну, если бы я его выдал, я бы не спал нормально, презирал бы себя, — пытался втолковать ему Баринов.
— А-а, — удивленно протянул Малышев. Его потянуло к друзьям. Разговор с бухгалтером начинал раздражать. — А я думал, вы спасли его из человеколюбия, из сострадания…
Бухгалтер вдруг заволновался:
— Я, конечно, сочувствую… И вовсе не боюсь, Иван Михайлович. Я только должен понять, что происходит.
На Томской улице, на квартире Махряновой, высокой черноволосой учительницы, часто печатали на гектографе листовки. Но сегодня здесь никого не было, кроме хозяйки.
— Праздник в одиночестве? — спросил, входя, Малышев.
Напевным голосом, в котором звучала улыбка, Мария Павловна ответила:
— Как только вы, Миша, вошли, я уже не в одиночестве. Надеюсь, вы не будете со мной христосоваться?
Иван рассмеялся.
— Я бы не прочь, — и бурно покраснел: он впервые допустил вольность по отношению к женщине.
Мария Павловна внимательно посмотрела на него.
— Давайте попечатаем.
Лист за листом воззвания ложились в стопу. Ивану весело было проводить по листу валиком.
— Здорово! Разжились мы техникой: машинка, гектограф… Теперь листовками со всеми рабочими похристосуемся…
— То-то же!
— Хорошо бы нам выпускать небольшую регулярную газету-листок… — мечтал Иван. — Меньшевики опять кричат, что не созрел еще наш рабочий для борьбы, что кончатся маевки тюрьмой да ссылкой и это только отпугнет всех…
— Сомневаться проще всего.
— Ах, как вы здорово это сказали, Мария Павловна: «Сомневаться проще всего!»
Уснуть в эту ночь Иван Михайлович не мог. Мысли о газете, о маевке, к которой призывало воззвание, напечатанное сегодня, теснились в голове.
Вспоминалась первая его маевка в Фоминке. Семья Кочевых. Интересно, жив ли Евмений, лечится ли? А эти — Стеша и Немцов — уж женились бы, не мучились! Вспомнил Иван Верхотурье, свое первое выступление у Кликун-Камня. Поднялся. Зажег лампу. Жестяной, покрашенный белилами колпак сосредоточивал свет над листом бумаги.
«Дорогие мои старички, — легли первые слова письма. — Дела обстоят у меня благополучно: опять по-прежнему сильно работаю».
Подумал: «Опять… по-прежнему…» Хватит одного слова «по-прежнему…» — отложил в досаде перо: — Читаю, читаю, пишу много, а все не добьюсь экономии слов! Надо научиться, как Ленин, чтобы ни одного слова нельзя было выбросить и чтобы каждое, крохотное, вмещало в себя большой смысл! Надо научиться оставлять такие слова, которые много отражают…»
Сразу после Первого мая начались аресты. Иван был осмотрителен, и обыск в его квартире ничего не дал. Однако он чувствовал за собой слежку. И все-таки радовался: Первое мая провели как знак протеста против расстрела на Лене! В пользу пострадавших собрали деньги.
Когда над толпой вдруг взвивалось красное полотнище или когда несколько человек запевали: «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой», — Ивана охватывало жгучее радостное волнение. И сейчас, идя на работу и вспоминая массовку, опять почувствовал он то самое волнение. «Для вас! — мысленно говорил он встречным. — Для тебя, седина! И для тебя, девочка с сумкой… для всех, для вас вышли мы все из народа!»
Еще с улицы в окно магазина увидел, как два полицейских рылись в его конторке. Быстро мелькнуло в голове: «Там я ничего не оставляю».
Бежать? Нелепо…
Он стремительно открыл дверь.
— Что это значит?
Тот же стражник с золотушным лицом, который проверял его квартиру, потряс перед Малышевым книжкой.
— А это что значит? Это что? И это вы допускаете за год до трехсотлетия дома его императорского величества?
В руках у полицейского была брошюра Маркса «О заработной плате».
Иван подумал с досадой: «И как я мог оставить ее здесь?»
Когда Малышева повели из магазина, товарищи провожали его ободряющими взглядами.
Снова тюрьма. Занумерованное одиночество. В окно заглядывало серое, без всяких оттенков небо. Стены камеры в пятнах, покрытые засохшей плесенью.