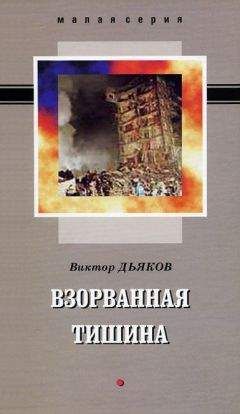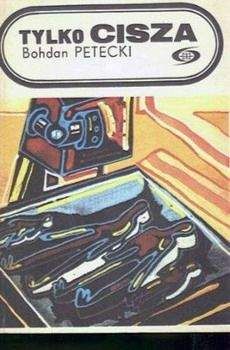Когда Анна Петровна, дожидаясь в конторе лечебницы заведующего, прочла в повешенном на стене объявлении, что «плата принимается вперед по расчету 30 франков в сутки», она пришла в отчаяние. Подала письмо заведующему, волнуясь давала ответы, необходимые для заполнения бланка…
— Только вот не знаю, как относительно платы…
— А что? Все в порядке.
— То есть?..
— Вы же принесли письмо Павла Ивановича — в нем деньги по расчету.
Чуть не расплакалась. Первый раз ей помогли, и притом в такой деликатной форме.
Когда после операции благодарила Павла Ивановича, тот, улыбаясь усом и бровями, отшучивался:
— Пустяки, наверстаю с американцев…
Три месяца ножки лежали в гипсе. Это было наиболее мучительное время для нее и для ребенка. В тесноте — в одной кровати втроем, в жаре и духоте… Теперь пора бы начать ходить, да первое время нельзя без ортопедической обуви. А стоит она более пятисот франков… Но… на шкафчике лежит зачитанный, потертый том Пушкина; в нем, между страницами неприкосновенный фонд: скопили уже четыреста; еще сто, и Манечка начнет ходить…
«…Теперь у нас чудная осень — большое оживление. Приехала труппа Московского Художественного театра. Конечно, мы не можем себе позволить часто, но изредка бываем с мужем. Ты, мамочка, не поверишь, какое наслаждение для нас, оторванных от родины, видеть хоть на сцене настоящую русскую жизнь…»
Предательская слеза упала на письмо, и слово «жизнь» расплылось в многорукого безобразного паука, с толстым, лиловым брюшком.
Глубоко вздохнула:
«Хоть бы раз побывать…»
* * *
Кароев поднялся с постели.
— Ужинали?
— Нет, дожидались тебя. Я сейчас…
Анна Петровна положила письмо в конверт, пошла к «решо». Кароев взял машинально конверт в руки.
— Матери пишешь?..
— Да. Ради Бога, не трогай! Вспыхнула.
— А вот прочту. А? Ну, ну, поверила… И за мной долг числится: три недели не отвечал брату. При нашей собачьей жизни ни думать, ни писать нет охоты…
Судьба брата, оставшегося после крушения Юга в советской России, сильно беспокоила его. В начале, когда им удалось войти в связь, письма брата были полны отчаяния: страшная нужда и невозможность найти работу… Скрывался под чужим именем; сквозь эзоповский язык, которым обыкновенно пишут оттуда, сквозил вечный страх, что обнаружат его прошлое… Потом был долгий перерыв. А в последнее время, к удивлению своему, Кароев получил опять — одно за другим — два письма, но совершенно другого характера: с безрассудной смелостью, без аллегорий и экивоков, брат писал о «проклятой, собачьей власти, которой скоро наступит конец…». И такая еще неосторожность в обращении: «Дорогой брат!..» Как мог он сделать такой промах и как могло дойти такое письмо! Теперь — когда возобновились опять неистовства ГПУ, и оттуда раздаются призывы: «Ради Бога, пишите осторожнее!..» Очевидно, человек дошел до такого уже состояния, когда жизнь перестает иметь какую-либо ценность.
Кароев подумал, помучился и… перелистал том Пушкина. В одну из суббот сходил на улицу d'Athenes, в комитет. Долго совещался там, делая карандашом выкладки, с высоким, полным господином, который привычным тоном, терпеливо давал объяснения:
— Мы рекомендуем перевод с выплатой в долларах, если адресат собирается ехать за границу, и с выплатой в червонцах — во всех остальных случаях…
Кароев послал два червонца.
Жене об этом не сказал. Зачем раньше времени бередить рану… Быть может, удастся пополнить сверхурочными… Только с Маней стал еще более нежен и ласкался к ней с какой-то виноватой улыбкой.
Поужинали быстро и молча. Маня была скучная, вялая. Мать потрогала лобик: небольшой жарок.
— Гу-у-лять хочу…
— Подожди, мое золотко. Теперь уж скоро. Папа сверхурочные получит, я продам пошетки, что выкроила из крепдешина — будут у доченьки сапожки такие — стальные, хорошие… Туп-туп — пойдем гулять по парку…
Кароев нервно пошевелил веками. Заныло в голове — в том месте, где покоилась пуля. «Стальные сапожки»… Есть такие слова, которые, как заноза, застревают в мозгу и саднят. И никак не вырвешь их из мысли. «Стальные сапожки»… Или вот еще сегодняшняя фраза генерала: «И нужно вам было»…
«Эх, заковала жизнь в стальные сапожки…»
— Ты знаешь, Аня, генерала не приняли на завод. Не знаю, как уж они перебьются. Надо зайти проведать…
— Сходи, — освежишься немного…
Вышел. Взобрался с трудом — генерал жил очень высоко. Открыла дверь генеральша и, сухо поздоровавшись, тотчас же ушла, сердито хлопнув дверью. Генерал поднялся навстречу.
— Вы простите, жене нужно было спешно к знакомым, по близости…
Разговор плохо вязался.
— И нет никаких перспектив, ваше превосходительство?
— Какие там перспективы! Куда ни кинешься — либо полно, либо возраст не соответствует. А то еще чин мешает… Один знакомый мой написал Проталову — слыхали, вероятно, — богач и меценат. В прошлом немножко даже мне обязан. Без меня, может быть, и не выехал бы за границу… Просил у него знакомый этот места для меня: дворника, уборщика, рассыльного, ну, словом, какой угодно черной работы. Вежливо, но отказал. К сожалению, пишет, нет пока подходящего для такого почтенного лица занятия, а дворником… этого он никак допустить не может!.. Понимаете? Допустить не может!.. Совестливый человек: он во дворце, я — в сторожке — неловко… А это ничего, что мы с Марьей Ивановной третий день уже, быть может… Ну, я это так, к примеру… Обернемся, конечно, и без него.
— Я хотел вам предложить, ваше превосходительство, на время… у меня есть свободная сотня…
Генерал закричал:
— И думать не смейте! Нищий у нищего. Никогда! Наступило неловкое молчание.
— Вот вы тогда, дорогой, погорячились, — продолжал генерал спокойнее, — конечно, молодость… Вы не хотите вникнуть — где мы, чем мы стали, в какую среду попали, с какими понятиями?.. От кого вы требуете галантного обращения? Он мне дурака, я — ему, ведь это быт-с! Офицерская честь, достоинство — конечно, но в свое время и на своем месте. А тут от monsieur Pigeot, коммуниста этого, сатисфакции требовать, что ли? Полез в кузов — назовись груздем. Народная мудрость — в преломлении беженских условий. Да-с! Забудьте на время, что вы офицер и интеллигент. Поднять до своего уровня чуждую нам среду мы — песчинки, вкрапленные в нее, — не можем. Абсурд. Следственно, применяться нужно к новому для нас быту, к профессиональному укладу, к пролетарской психологии…
Генерал, ходивший крупными, мерными шагами по комнате — пять вперед, пять назад, — вдруг остановился перед Кароевым.
— И знаете ли, от Проталова обида тяжелей легла на сердце, чем от monsieur Pigeot…
При прощании Кароев вновь и настойчиво предложил генералу взаймы.
— Уверяю вас — это сбережение. Так будет целее… Генерал, видимо, колебался…
— Ну, хорошо. Спасибо сердечное, дорогой. Через недельку постараюсь…
Но когда Кароев сходил уже в нижний этаж, наверху открылась дверь, и по темной лестнице загудел голос генерала:
— Послушайте, дорогой, где вы? Не могу. Возьмите ваши деньги. Смалодушничал. Вранье все это насчет «недельки»… Никогда я не смогу вернуть, потому что чувствую — петля.
Кароев прижался к стене и молчал.
— Где вы? Ушел!..
Когда дверь за стариком закрылась, Кароев быстро сбежал с лестницы и вышел на улицу.
Дома уже спали. Анна Петровна, проснувшись, сонным голосом сказала:
— Не забудь оставить 20 франков — завтра базар…
— Отку… Да, да, хорошо.
Не зажег газа. В темноте тайком пошарил рукой по стене; найдя шкафчик, снял с него том Пушкина и бесшумно стал перебирать листы.
* * *
Вернувшись домой в субботу, Кароев нашел повестку, с приглашением в этот вечер присутствовать «на чае», устраиваемом в честь прибывшего в Париж политического деятеля. Смутила несколько перспектива неприятного разговора со старшим группы по поводу неуплаченных уже за три месяца членских взносов и долга в заемный капитал… Но как-нибудь уладится — поймет же человек, что «на нет и суда нет»… А между тем послушать столь осведомленное лицо хотелось. Судя по газетам, положение опять стало напряженным; кругом ходят слухи о полном экономическом крахе советской России, о восстаниях, о таинственной подготовке интервенции… Слухи — самые невероятные и противоречивые. Еще вчера, например, встретил на улице однополчанина, который «из самых достоверных источников» передавал, что интервенция Польши и лимитрофов, при помощи Англии, была окончательно решена, но обнаружилось намерение немцев напасть на Польшу, в случае войны ее с советами… А сегодня, при выходе с завода, в воротах догнал его полковник Нарочкин, румяный и веселый человек, устроившийся в конторе, и еще издали замахал ему приветственно рукой.