Здесь впервые, по рассказам побывавших в Чистополе, ощутила его атмосферу. Не хочется мне туда на житье. Я все больше убеждаюсь, что единственное место, где мне надо сейчас быть, — это Ленинград. Там и жить легче. И, не сомневаюсь, умереть будет легче, если придется. Погибнуть в огне, во время штурма или под бомбами во время налета, но горячей, боевой смертью.
Ленинград сейчас — это действительно крепость, где мы — гарнизон. А в крепости все приспособлено для войны. И там легче, чем, например, в Саратове. (Слушаю радио: тяжелое. Мы «отошли на новые рубежи». Бои все еще «на подступах к Воронежу».)
16 июля 1942 года
Радио очень тяжелое. Мы оставили Богучарово и Миллерово.
У Антокольского погиб на фронте восемнадцатилетний сын. Почти наверное погиб Алтаузен.
Сельвинский, с палкой, хромой, одна нога в сапоге, другая в ночной туфле, сумрачен (после Керчи). Он тоже едет к своим в Чистополь, но до Казани поездом. А когда я еду и каким способом, все еще не ясно. Думаю о самолете. А дни уходят, уходят…
Здесь тревожно. Говорят, что немцы летели на Москву, но их отбили у Подольска. Хорошо бы быть уже снова в Ленинграде.
Сегодня идем в милицию хлопотать о разрешении на выезд. Погода на редкость нелетная. Дождь. А ранним утром гроза.
19 июля 1942 года Казань. Аэропорт
Сижу в гостинице при аэропорте. Точнее — это нечто вроде общежития, где в каждой комнате по нескольку кроватей.
Погода — не приведи бог! Беспросветный дождь, холодный, порывистый ветер. Не нужно быть синоптиком, чтобы понять смысл всего этого: лететь нельзя. А вчера сюда долетели прекрасно, но поздно. На западе все небо было огненно-красным, и я подумала, что это к непогоде. Так оно и вышло.
Кроме скверной погоды, тут на аэродроме еще горе. Вчера утром разбился «У-2» и два летчика на нем.
Сегодня погибших хоронили. Отсюда увезли на кладбище лопасти винта, увитые кумачом и цветами.
Ночью проснулась от сильнейшей грозы. Удары грома сотрясали здание. Эвакуированная девочка, спавшая с матерью на одной из кроватей, плача, спрашивала:
— Мама, кто это стреляет?
Итак, я в трех шагах от Жанны, но самолета нет, а на пароход я не отваживаюсь: слишком долго и сложно. Авось, распогодится.
Сумерки
Бурный оранжевый горизонт под синими, быстро несущимися тучами. Небо как бы находится в состоянии бегства: все тучи убегают в одну сторону. Дождя уже нет, но что будет завтра? Только что снова ходила к начальнику аэропорта и получила ответ:
— Завтра отправим непременно.
Радио не слыхала, но мне сказали, что мы оставили Ворошиловград. Я заметила, что плохие известия в Ленинграде легче переносимы, чем здесь.
20 июля 1942 года. Утро
Обидно: ведь лёту всего 40 минут. Уж лучше бы поехала пароходом.
Но утро сейчас чудесное. В небе ни одного облачка — все разогнал ветер. Сейчас снова пойду к начальнику.
Днем
Я все еще здесь. Самолета нет, погода портится с каждой минутой. Обещают на половину пятого, но я уже плохо верю.
Повезет меня «У-2». Ведь пассажирского сообщения тут нет: только оказия — почтовая или санитарная.
22 июля 1942 года. Чистополь
Я прилетела сюда под вечер, когда меня уже не ждали. Шла с аэродрома тихими захолустными улицами, овеянными луговым ветром. Когда-то я была в Чистополе — во время агитоблета в 1924 году. Думала ли я, что побываю здесь снова? И что в здешней земле будет похоронен ребенок моего ребенка.
Привез меня сюда почтовый самолетик. Пилот была женщина. Механик, отправлявший машину, — тоже женщина. Самолетик шел по земле так долго, что я начала опасаться, не дойдем ли мы таким манером до самого Чистополя? Но вспомнила, что по дороге Кама.
На «У-2» чувствуешь себя, как на этажерке. Кругом воздух, ветер, пустота. Никакой устойчивости. Воздушная дорога была вся в ямах и рытвинах. Громадное солнце шло к закату. Мы летели над Камой, аромат лугов подымался даже сюда, в высоту.
Начальник Чистопольскою аэродрома, тоже женщина, стоя по пояс в траве, взяла наш «У-2» за крыло, как журавля, и остановила его.
На прощанье я пыталась угостить своего пилота папиросами. Оказалось, она не курит. Я предложила полбутылки хорошего красного вина. Нет, она и не пьет. Тогда я, после минутного колебанья, вытащила из кармана пальто непочатую губною помаду. Имой пилот не устоял: смущенно улыбаясь, взял.
23 июля 1942 года
Мне тяжело здесь. Жалко Жанну, а взять ее в Ленинград не могу решиться. Сама я с трудом привыкаю к мирной жизни. Вчера, увидав из окна, что какая-то женщина с ребенком бежит по улице, я подумала: «Как же это я не услышала тревоги?» Оказалось — строптивая лошадь сорвалась с привязи и напугала прохожих.
Удивительно мне, что по вечерам нет затемнения. По привычке все сажусь подальше от стекол.
Сегодня вечером мое большое выступление. Буду читать «Пулковский».
24 июля 1942 года
На моем вечере народу было множество: пришли все наши чистопольцы. Точнее, москвичи, собранные здесь войной. В президиуме: Исаковский, Пастернак, Сельвинский, Асеев. Необычно все это было.
Я очень волновалась, но не так, как всегда, а иным, более глубоким, более… как бы это сказать… ответственным волнением… В каком-то смысле я выступала здесь от имени Ленинграда. Все ждали от меня именно этого.
Проходы между стульями, подоконники — все было полно. Двери были раскрыты настежь: там тоже стояли.
Осыпанная звездами, сухая, жаркая (не такая, как в Ленинграде) ночь глядела в незатемненные окна.
Я говорила и читала хорошо, хотя читать мне было трудно, особенно III главу поэмы, где говорится о смерти ребенка.
Я остановилась, помолчала минуту. И в жаркой тишине услыхала взволнованное, неровное дыхание десятков людей.
Я старалась… мне хотелось через все это пространство, через пол-России, протянуть сюда, придвинуть вплотную к этому тихому прикамскому городку гранитную громаду Ленинграда, смутно освещенную сейчас уже догорающими белыми ночами.
Я рассказывала о ленинградских людях, о женщинах, о фронтовиках, о детях… о мальчике, который, плача, гасил песком зажигательную бомбу. Он боялся, ему было только девять лет. Но, плача, он все же гасил ее.
Когда я окончила, все бросились ко мне, обступили меня, пожимали руки. Все это было мне за Ленинград.
26 июля 1942 года. Пристань. Устье-Камское
Вот и кончился Чистополь. Вчера провели на аэродроме целый день, но ничем не могли там воспользоваться, за исключением дивного воздуха, пропитанного полынью, и холодного молока из погреба. Ни один самолет не взял нас, да их и было очень мало. Я добилась по телефону лошади, и мы поехали через весь город на пристань. Прождав там с часу дня до часу ночи в маленькой чистенькой комнатке речного вокзала (это помещеньице напомнило мне квартиру Пеготти в «Давиде Копперфильде»), мы сели на пароход. Будем в Казани сегодня днем
28 июля 1942 года Москва
Снова в Москве. Очень тяжело на фронте. Мы оставили Ростов и Новочеркасск. И еще что-то грозное происходит.
Дорога была трудная. Не могу забыть инвалидов. В Ленинграде их нет. Там есть раненые, которые могут еще выздороветь.
В Казани на вокзале один, совсем молодой, с напряжением взбирался на костылях в вагон. Проводник-женщина жалостливо повторяла:
— Тише, тише. Осторожнее ногу.
А эта нога была — новенький, еще ненадеванный протез в башмаке, висящий за спиной. Второй протез, запасный, но уже без башмака, инвалид нес в руках.
Дорога была тяжела. Единственная радость: уже недалеко от Москвы, на станции Куровской, кажется, что-то толкнуло меня подойти к щиту с номером «Правды». И там я увидела напечатанной третью главу моего «Пулковского».
3 августа 1942 года. Ленинград
Вчера мы летели сюда из Москвы целой эскадрильей: пять «дугласов» и семь истребителей.
Грузные тела «дугласов» казались неподвижно висящими на равных расстояниях друг от друга — только пропеллеры вились, как дымки. Истребители шли над нами. Все время где-то сбоку происходили воздушные бои, но над Ладогой было тихо.
Сейчас двенадцатый час ночи. Тишина. Изредка стреляют. Смутно на душе, а надо непременно сесть с завтрашнего дня за IV главу.
4 августа 1942 года
Ревнивые и требовательные божки Чистота и Порядок набросились на меня по приезде и яростно потребовали жертв.
Я принесла им эти жертвы с бесчисленными коленопреклонениями, с возлиянием чистой водой, с помахиванием пыльной тряпкой. Домашние тираны успокоились (на время, на время!).
Ночь была полна артиллерийского гула. Особенно сильно было все это на рассвете. Теперь — тишина.




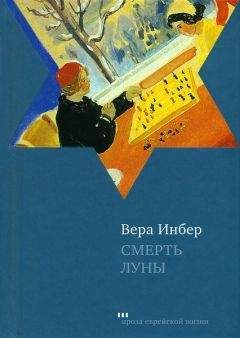
![Алексей Рюриков - 10 июня 1941 года [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)