Читальня летчиков помещалась в бревенчатом домике в лесу. Журналы на столе пахли хвоей. По стенам висели плакаты. На одном из них был изображен знаменитый асе, гвардии старший лейтенант Петров. Кожаный шлем обрамлял мужественное и суровое лицо. На вид Петрову было лет тридцать. Под портретом значился послужной список летчика: 500 боевых вылетов, 50 воздушных боев. Сбил самостоятельно 5 фашистских машин. Штурмовок — 30. Разведок — 40. Отражений — 36.
— Мне хотелось бы побеседовать с Петровым, если он свободен, — сказала я сопровождавшему меня полковнику.
— Вам повезло, — ответил тот. — Петров сегодня свободен. Сейчас я пришлю его к вам.
Оставшись одна, я, стоя на пороге домика, оглядывала аэродром, со всех сторон окруженный лесом. Звено дежурных истребителей казалось группой стрекоз на громадном лугу. Было совершенно тихо, только из глубины синего осеннего неба доносилось стрекотанье.
Время шло. Петров не показывался. Два молодых летчика прошли мимо, оживленно беседуя. Прошел механик в комбинезоне. Прошел какой-то совсем юный голубоглазый мальчик с ямкой на подбородке. Рыжий пес, сопровождавший его, подбежал ко мне.
— Геббельс, назад! — крикнул юный летчик.
— Почему «Геббельс»? — спросила я.
— Вот и я спрашиваю — почему? — подхватил летчик. — Черт знает что такое. Испоганили суку. А она уже привыкла к этому имени.
Летчик остановился близ меня. Мы помолчали.
— Не знаю, как быть, — сказала я. — Жду одного человека, а у меня времени уже мало.
— Вот и я, — вздохнул летчик, — и у меня тоже времени немного. Полковник сказал, чтобы я шел в читальню. А для чего — не сказал.
— Позвольте, так это вы и есть Петров? — воскликнула я.
— Точно.
— Асе?
— Так меня называют.
Я невольно оглянулась на плакат, сравнивая портрет с оригиналом. Сходство между ними было, но такое, какое бывает между двоюродными братьями, различными по возрасту.
— Это я, — сказал Петров. — Только я там немного старше.
— Да, немного, — согласилась я, скрывая улыбку. — А сколько вам, простите, лет?
— Двадцать один. — Он сделал небольшую паузу и закончил: — Скоро будет.
И тогда я поняла, что фотограф, смущенный необыкновенной молодостью асса, умышленно состарил его.
— Товарищ Петров, расскажите мне, как вы воюете.
От природы ли вы так геройски смелы или вытренировали себя?
Петров присел на пенек. Сука Геббельс раболепно растянулась у его ног.
— Мне трудно ответить на ваш вопрос. Смелость… геройство, об этом я совсем не думаю. Я вылетаю, чтобы бить врагов. Вот о чем я думаю. И я их бью. Для этого я на все готов. И не только я. Зимой мы обычно летаем в масках и очках. Это предохраняет от холода, но уменьшает видимость. Прошлой зимой мы летали без масок и без очков.
— А кто это придумал так летать?
— Один из нас.
— Быть может, вы сами?
— Это неважно. Важно только, что таким образом мы повысили свою боеспособность. Зимой вообще приходилось туго. Бывало так, что мы сутками не отходили ни на шаг от машины. Даже спали на плоскости крыла. Неприятельские самолеты были сильнее нас в воздухе. Куда бы они ни летали, они считали своим долгом пройти над нами и сбросить сюда бомбы.
— А теперь?
— А теперь они делают большой крюк, только бы миновать нас.
— Расскажите о каком-нибудь из ваших вылетов.
— Недавно я дрался с двумя «мессершмиттами-109». Одного я сразу срубил. Второго я все водил от облачка к облачку. Вынырну — скроюсь. Вынырну — скроюсь. Довел его до такого состояния, что он потерял терпение и допустил грубую ошибку: подставил мне слишком большую площадь для удара. Я срубил и его и стал уходить. Но вдруг смотрю — ах ты, боже мой! — наш парашютист в воздухе висит. А летчик из третьего «мессершмитта» стреляет по парашюту из автомата. Тогда я повернул обратно и заставил фрица пуститься наутек. Срубить его я не мог. Я сам уже был подбит, да и горючего было совсем мало.
— А как вы думаете, фриц тоже спас бы таким образом своего товарища?
— Из показаний пленных летчиков мы знаем, что за каждый сбитый наш самолет они получают деньги. Понимаете? Деньги. Фашисту бы только сбить нашу машину и побежать к казначею. А за парашютиста своего он ничего не получает. Вот как они воюют. Гадины. Звери продажные.
Петров встал. Голубые глаза юноши потемнели. Глубокие складки появились в углах рта. Жилы на шее напряглись.
Асе Петров стоял передо мной таким, каким он был на портрете.
5 сентября 1942 года
Вчера на рассвете вернулись из Кронштадта, где мы пробыли неделю. Выступали там одиннадцать раз, не считая выступлений по радио.
Последний вечер был в Доме флота. Присутствовало человек восемьсот: все было сине от матросских фланелевок и отблескивало золотом якорьков. Слушали нас прекрасно.
Уходили мы из Кронштадта поздно ночью, с приключениями. Сначала мы долго ждали «дымзавесчиков», без которых нас не хотели пускать. В конце концов мы все же ушли без них.
Но главная трудность была в барже, которую наш катер должен был взять на буксир и не мог. Ветер был слишком силен, почти шторм.
Все выглядело зловеще: поздняя луна на ущербе, клочья туч, свист ветра, все растущий плеск моря. Громадная баржа, призрачно освещенная рваным лунным светом, не только не давала взять себя на буксир, но сама еще напирала на нас то кормой, то бортами и грозила расплющить наш катерок о причал. В пути мы, что называется, хлебнули с ней горя. Она у нас сорвалась, и мы ловили ее среди моря. И так нам стало неуютно от вражеских ракет на том берегу, что мы пожалели об отсутствии «дымзавесчиков». Но в конце концов все сошло благополучно, хотя нас страшно качало и бросало во все стороны, просто с ног сбивало. Была такая минута, когда на меня в каюте со всех сторон полетела какая-то тяжелая утварь.
К Тучкову мосту подошли на рассвете, — все было розовое. Трамваев еще не было. Мы с Кетлинской отправились пешком по Большому проспекту к нам домой. Поели, напились кофе и легли спать. Земля много лучше, чем море.
6 сентября 1942 года
На юге бои неслыханной силы. Сталинград, видимо, будет держаться. И устоит.
Я пишу песню «Энская высотка».
Полночи не спала из-за «Высотки», но зато все же окончила ее.
Сегодня тихий, пахнущий листвой кроткий осенний дождик. Писать в такой день наслажденье.
Вчера была в Ботаническом саду. Лето прощалось с ним невыразимо прекрасно. Над маленьким прудом летали стрекозы. Ни ветерка. Аллеи начали желтеть. Рябина отражается в воде. Иногда мне кажется, что Ленинград сейчас — один из самых тихих городов мира.
9 сентября 1942 года
Вчера исполнился год со дня первой бомбежки Ленинграда (горели знаменитые Бадаевские склады). Мы были в театре на «Летучей мыши».
Федю П. с того вечера больше не видела, он погиб от голода. Сначала у него еще хватало сил выступать по госпиталям в качестве чтеца, где его кормили за это. Но потом ослабел, ему все труднее было двигаться.
10 сентября 1942 года
Опять по-новому начала четвертую главу. На юге — у Сталинграда — хорошо. В Новороссийске бои уже на улице.
12 сентября 1942 года. Вечер
Мы оставили Новороссийск.
Страшный ветер. Есть опасность наводнения. Даже наша Карповка угрожающе поднялась.
Четвертая глава как будто пошла по-настоящему.
13 сентября 1942 года
Ветер стих, вода спала. На фронте «существенных изменений не произошло».
Четвертая глава подвигается, но все еще боязно.
Читаю сейчас немного. Во время работы очень важно не менять книг, а как бы застыть на одной или двух, чтобы не потревожить уже установившегося течения мыслей. А то прочтешь что-нибудь новое — все придет в беспорядок. И станет трудно писать.
15 сентября 1942 года
Возвращаясь из города, пропустили на Введенской два трамвая, слушая Тихонова по радио.
Это было обращение к Кавказу, к которому сейчас рвутся фашисты. Разговор с кавказскими народами: «Грузины, осетины, дети Дагестана…» Тихонов напомнил им слова старой песни: «Это будет такой жаркий день, что мы сможем рассчитывать только на тень от наших шашек».
На темной ленинградской площади, осенним вечером, под далекий орудийный гул, много народу стояло и слушало это выступление.
16 сентября 1942 года
Переехали в новые комнаты. На этот раз их две. Очевидно, если судьбе будет угодно, мы останемся здесь до конца войны.
Вчера выступала на заводе имени Макса Гельца. Там работают мальчики-ремесленники. Они сидели тихо, слушали хорошо.
Когда я окончила, ко мне на эстраду поднялся из первого ряда парнишка в шапке-ушанке.
— Лучший стахановец цеха, — шепнул мне секретарь парторганизации.




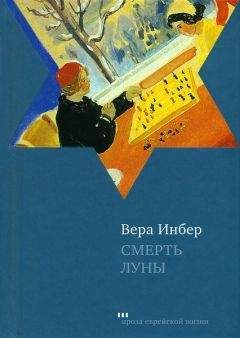
![Алексей Рюриков - 10 июня 1941 года [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)