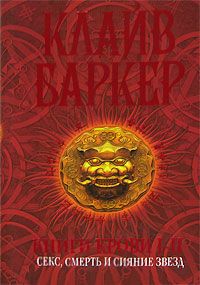Гонзик и Олин сидели рядом, прижавшись друг к другу. Повсюду — одна и та же картина: спящие люди в коричневых шинелях и пилотках. Только в углу, у двери, стоял человек в другом обмундировании, с другим выражением лица. Ефрейтор Гиль не спал. Спать было нельзя, потому что рядом с ним уже задремал его начальник, пожилой низкорослый фельдфебель Бент. Прежде чем заснуть, он снял своими маленькими руками большую фуражку и положил ее на потертый кожаный портфель, лежавший у него на коленях. Его лысая яйцеобразная голова покачивалась, воротник мундира был расстегнут.
Ефрейтор Август Гиль бодрствовал. Широко расставив ноги и сложив руки за спиной, он стоял у двери вагона, прочно сбалансировав тяжесть своего кряжистого тела на ступнях толстых столбообразных ног; при сильных толчках поезда он удерживал равновесие, легонько отталкиваясь руками от деревянной стенки вагона. Его круглая голова, казалось, сидела прямо на широких плечах; маленькие злые глаза неустанно перебегали с одной спящей фигуры на другую, временами они останавливались на рекламной цветной картинке в деревянной рамке, восхвалявшей несравненные качества сигарет «Экштейн».
Поезд мчался по холодному неуютному ночному краю, колеса стучали монотонно, как мельничный привод.
Август Гиль уверенно стоял на широко расставленных ногах, кулаки он сложил за спиной, мерный стук колес убаюкивал его, но твердая воля сопротивлялась сну. Он не должен спать! Здесь, возле задремавшего Бента, он представляет командование роты, которому подчинена эта немногочисленная группа чехов. И он не спускает с них глаз, ни на минуту не забывает инструкций и указаний своего командира. Тело Гиля напряжено, он в любой момент готов ко всякой неожиданности, к коварному нападению. Гиль, правда, никогда не задумывался над тем, какого именно коварства можно ожидать от чехов. Никогда не размышлял он и о полученном приказе, о его целесообразности или правильности. Приказ есть приказ. Ведь он, Гиль, — преданный и уверенный в себе воин непобедимого вермахта, который по воле провидения и фюрера покорит всех и завоюет мир.
Гиль приоткрыл глаза, наклонил голову и стал разглядывать зеленое сукно обмундирования на своем здоровом, сильном теле. Этот плохо сшитый мундир из дешевой ткани он в свое время надел с гордостью и восторгом. Гиль мечтал о мундире сызмальства, в его характере и тогда было что-то военное — решительность, твердость, суровый и властный нрав. Его здоровенные ручищи свисали с широких плеч, как две стальные гири, Гиль в любой момент готов был раздавать ими удары или угрожающе размахивать, кичась своей силой. Односельчане Гиля — сам он был родом из Гарца — могли бы многое порассказать о его силе и о том, как он всегда умел внушить к себе опасливое уважение. Всем своим существом Гиль тянулся к военной форме, к армейской службе. Но военным ему довелось стать только теперь, когда началась эта паршивая война, и в этом запоздании он обвинял свою жену Анну-Марию.
Вспомнив о жене, Гиль еще крепче сжал кулаки за спиной и стиснул зубы. Не будь Анны-Марии, он бы добился чина повыше, чем унтер-офицерский. До сегодняшнего дня он корит себя за то, что сошелся с ней, а сойдясь, не нашел в себе достаточно сил и решимости не посчитаться с мнением людей, наплевать на их наставления и остаться холостяком, для которого ничто не свято и ни в чем нет запрета.
Ну, и он женился на ней. Ради будущего ребенка. Тем самым он отказался от мундира: пришлось взяться за плуг и обрабатывать скудный участок земли, который принесла ему в приданое Анна-Мария.
Сперва им жилось неплохо, Анна-Мария была здорова, хороша собой, она сумела привязать к себе Августа и даже привила ему вкус к спокойной и мирной жизни в их захолустной лесной деревушке. Но с каждым годом у них прибавлялось по ребенку, и тогда пришлось искать приработка, хозяйство уже не могло прокормить столько ртов. Август все чаще упрекал Анну-Марию, а потом стал бить ее за то, что она довела его до беды, испортила ему жизнь. Он безудержно бражничал в деревенском трактире старого еврея Вейнгарда и чуть не пропил все хозяйство — и каменистое поле и избу.
Но властный и сильный голос, который в то время, подобно гласу божьему, прозвучал над Германией, спас Августа Гиля. Он сразу опомнился, осознал силу своего тела, проникся заносчивой гордостью, ноги сами собой несли его по лесным просекам на тайные сборища гитлеровцев. Гиль сделался восторженным последователем фюрера, хотя вначале ему даже не было ясно, к чему зовет этот неумолимый голос, за которым тупо шли толпы, одетые в коричневую форму. В голосе фюрера Августу слышалась несгибаемая немецкая воля и убежденность, звучала отрадная надежда для всех ущемленных и авантюристических элементов великой нации. Приятно было слушать этот голос и верить тому, что фанатически выкрикивал Гитлер о новой справедливой судьбе и грядущем воинственной Германии. Август быстро понял, чего хочет фюрер, куда он гнет, и почувствовал, что его собственные чаяния как никогда близки к свершению.
И вот в один осенний вечер старый еврей-трактирщик исчез, словно сквозь землю провалился, а Гиль, перепившийся до немоты, три дня потчевал всю деревню и на глазах у всех сжег над свечкой бумагу, в которой было записано, что трактирщик Вейнгард ссудил Августу Гилю, под залог поля и усадьбы, три тысячи марок серебром из пятнадцати процентов годовых.
На четвертый день Гиль отпер двери трактира и заказал вывеску «Трактир А. Гиля». В тот же день он отвез в город и положил в банк десять тысяч марок, а свое поле и домишко сдал в аренду соседу Гансу Шоберу.
Началась война. Август, одним из первых призванный в армию, участвовал в походе на Польшу. Он был ранен в плечо и грудь, потом служил в гарнизоне во Франции, а два месяца назад его назначили в чешскую трудовую роту. Жаловаться на судьбу не приходилось: судя по всему, новая должность была безопасной и удобной. О чехах у Гиля сложилось вполне определенное мнение, ведь он побывал в Польше и знал поляков, а чехи — это ведь что-то вроде них. У командира роты капитана Кизера есть на их счет ясные инструкции: чехи — это рабочая сила, которая помогает устранять военные разрушения. Поэтому надо говорить им о дружбе и на данном этапе относиться снисходительно. Говорилось даже, что чехи, мол, и немцы — народы одного культурного уровня, — такова была первоначальная установка высшего военного начальства, но в будущем о ней лучше помалкивать, а чехов рассматривать как нечто среднее между солдатами и заложниками. По крайней мере сейчас, пока не кончилась война, а там видно будет.
Гиль снова усмехнулся своим большим ртом и, взглянув на Мирека, мысленно произнес: «Mein Lieber, ’s kommt d’rauf an, wie lange der Krieg noch dauert»[1].
Равномерный стук колес стал медленнее: поезд сбавлял ход. Ефрейтор Гиль очнулся от раздумья, продрал глаза и фельдфебель Бент — он дернул лысой головой, щурясь, оглянулся по сторонам и надел фуражку. Гиль оттолкнулся от стены и побежал по проходу, громко топая каблуками.
— Also, los, los![2] — орал он, тыча кулаками в спящих людей. — Los!
Люди просыпались. Кованда потянулся так, что у него хрустнули кости, нагнулся, пошарил руками и легко, как куклу, поднял с пола спящего Пепика.
— Не ори! — сказал он по-чешски Гилю, который своей медвежьей лапой хлопнул его по плечу. — По утрам я ужас какой пугливый, гляди как бы не задурил, а то тебе не поздоровится.
Парни подтянули пояса и шарфы, нахлобучили на уши пилотки, подняли воротники шинелей и, когда поезд остановился, вышли на маленькой лотарингской станции и построились в три шеренги. Под командой Гиля они нестройным шагом двинулись по пахнувшим навозом улицам французской деревушки.
Проезжая часть улицы была вымощена булыжником и покрыта слоем мерзлой грязи. В деревне ни души, тишина мертвая, словно всех жителей кулаками и кнутом загнали в притихшие домики. Над деревней гордо высилась старинная готическая церковь с башней и часами, которые начали бить как раз в тот момент, когда команда маршировала мимо главного притвора.
По улице проходили колонны русских и сербских военнопленных, подъезжали автобусы и тракторы с прицепами, привозившие парней и девушек с Украины.
За деревней, на берегу канала, был выстроен деревянный лагерь: склады, конторы, кухни, теплушки. По проложенным тут же рельсам бегал паровичок с медной табличкой на трубе: «Чешско-моравские машиностроительные заводы».
— Доброе утро, малютка, — сказал этому паровичку Гонзик и хлопнул ладонью по его дверце. Из будки выглянул Марсель, косматый француз в берете и сильных очках.
— Salut, mes amis![3] — воскликнул он и выставил сжатую в кулак руку, растопырив на ней безымянный и указательный пальцы так, что получилось подобие буквы «V». — Victoire! — заговорщицки прошептал он. — Victoire![4]