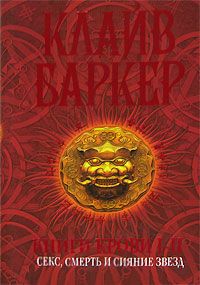Гонзик долго не отвечал и, сжав кулаки, не сводил с Гастона возмущенного взгляда. Потом он заговорил, и голос его звучал так глухо и отчужденно, что Гастон не узнал его.
— Жалею, что этого не сделал. Очень жалею, что не дал умереть трусу… Впрочем, еще не поздно, — добавил он после паузы. — Можешь попытаться снова, я обещаю тебе, что и пальцем не пошевелю, чтобы спасти тебя. — Он соскочил с постели, поднял пояс и швырнул его Гастону. — А если этот порвется, я дам тебе свой.
Босиком он дошел до выключателя, повернул его и бросился на постель. Они долго лежали, не шевелясь, затаив дыхание, каждый старался услышать движения другого. Засыпая, Гонзик слышал, как Гастон тихо плачет в подушку и шепчет: «Сюзанна, Сюзанна…»
На другой день, незадолго до ужина, пришел Кованда. Шапочка у него была надвинута на уши, воротник он поднял, шею укутал шерстяным шарфом, а руки прятал в большие брезентовые рукавицы.
— Сдается мне, что это не я, а какой-то капустный кочан, — сказал он, медленно снимая многочисленные одежды. — Помню, у нас в деревне выступал однажды заезжий фокусник. Вылез он на сцену почти голый, в одних трусиках, зашел за бумажную ширму — сперва он нам ее показал с обеих сторон, — а когда вышел оттуда, на нем сверху была каракулевая шуба, а под ней — овчинная, под овчинной — черная пара в полоску и другая без полоски, жакет, костюм из молескина, да еще спецовка и шаровары. Как стал раздеваться, целую груду платья навалил на стол и стулья. А тут как раз был судебный исполнитель Цвайлих. Он и говорит: «Эту одежду я у вас конфискую, господин Працух, потому что за вами недоимка по налогам столько-то и столько-то». И бегом на сцену. Не успел он добежать, фокусник уже оделся, и — шасть за ширму. А когда Цвайлих вскочил на подмостки, фокусник опять расхаживал голый, платья и след простыл, как ни искал Цвайлих, всю ширму истыкал зонтиком, ничего не нашел. А фокусник говорит: «Прилепите мне гербовую марку вот сюда, на трусики, господин исполнитель…»
Кованда сел на стул у постели и весело расхохотался.
— Карел говорил, что я тебе нужен, Гонза.
— О Сталинграде знаешь?
— А то как же, — просиял Кованда. — Видел бы ты, как обрадовались ребята! Прямо очумели. На работе сегодня никто палец о палец не ударил, а вчера ночью какой-то ловкач написал мелом на казарме — «Сталинград». Над окнами во втором этаже. Немцы взбеленились, а лезть никому неохота. Наконец полез одноглазый Бекерле, они ему держали лестницу, а он возился там полчаса, пока стер. А еще кто-то вырезал «Сталинград» на дверях конторы, прямо по свежей масляной краске, хулиган! Последняя буква у него не вышла, нож сломался. Столяры нынче эту дверь чинили, грунтовали и красили, но не вздумается ли кому снова разукрасить ее — бог весть.
Гонзик весело улыбнулся, потом лицо его стало серьезным.
— А что немцы?
— Сам понимаешь, нагоняют страху. Назначили нам муштровку после работы и перед работой, проверку одежды, генеральную уборку комнат. Срезали пайки, завели всякие строгости, не дают увольнительных.
— А тебя ко мне отпустили?
— Куда там! Я сам ушел, сиганул через забор, знаю там надежное место. Так что поторопись, я тут инкогнито.
— Как ты думаешь, — начал Гонзик, — может статься, что у кого-нибудь из наших немцев пропадет пистолет?
Кованда внимательно взглянул на Гонзика и усмехнулся.
— Может и такое случится. Немцы страсть какие неаккуратные. Например, один из них будет читать книжку и заложит пистолетом страницу, чтобы не забыть, где остановился… Или нахлещется шнапсом и посеет пистолет по дороге. Гиль, например, потерял фуражку. Он был именинник и наклюкался в столовой, как свинья. Так фуражка и не нашлась.
— Ты не хочешь меня понять, — упрекнул Кованду Гонзик. — Мне или еще кому-то очень нужен пистолет.
Кованда вытаращил глаза.
— Да что ты говоришь! А что ты будешь с ним делать? Еще попадешь в беду! Ты же с ним не умеешь обращаться, чего доброго он выстрелит у тебя в кармане. Не советую тебе брать в руки такую вещь.
Гонзик уже не улыбался.
— Ну будь хоть с минутку серьезным, папаша, — настаивал он. — Мне в самом деле нужно оружие, и ты должен его достать.
Кованда рассердился:
— Ты что же, мальчишка, подбиваешь меня, старика, на кражу? Я в жизни не воровал, разве только дрова в лесу, да однажды, еще когда был холостяком, стащил свинью, но это было просто так, для потехи. Не-ет, дело не пойдет. У меня дома жена и четверо ребят. Что скажут мои деточки о папе, ежели…
— Ты никак не можешь оставить свои шуточки?
— Да я не думал шутить, я говорю серьезно. Скажи на милость, на кой тебе пистолет? Где ты его спрячешь? Ведь найдут.
— Он не для меня, я его сразу отдам. Из рук в руки.
— Ну, а для чужих людей я и подавно связываться не стану. Сдурел я, что ли! Это же чертовски рискованное дело!
— Потому я и позвал тебя. Только ты сумеешь. Больше ни на кого нельзя положиться.
— Так нет же! — сказал Кованда, встал и начал одеваться. — Это ты, миленький, просчитался. Не стану я связываться с таким делом, не стану ни за что ни про что рисковать своей шеей.
— Как это так — ни за что ни про что! — закричал Гонзик.
Но Кованда только рукой махнул.
— Ерундовое это дело, ничего не выйдет, — решительно сказал он и надел кепку.
— Значит, ты отказываешься?
— Ну, ясно. А сколько тебе нужно-то? Один?
Гонзик не понял.
— Чего?
— Ну, мать честная, пистолетов-то один или два?
Кованда стоял у постели и лукаво подмигивал Гонзику своими добрыми, смеющимися глазами.
— Зачем ты меня изводишь, папаша?
Старый Кованда поднял обе руки:
— «Зачем изводишь?» — передразнил он. — Каждый сопляк считает, что можно придумать всякую блажь, а старый Кованда сразу сломя голову побежит выполнять. Чего бы я тогда стоил? Я тебе не помощник и не знаю, какие там есть глупые затеи в твоей треснутой башке. Ты все секретничаешь, все чего-то выдумываешь, заводишь всякие темные дела, а я на старости лет должен в них ввязываться? Мамаша мне говаривала, что моя свечка далеко не доплывет, с тех пор я осторожный. — Он повернулся и пошел к двери. — Эту игрушечку я тебе раздобуду. Может, мне Гиль уступит ее за сотню сигарет. Можно обсудить это дело с Карелом?
— Я сразу хотел с ним поговорить, но тут были Мирек и Пепик.
— Ладно. Так я пошел.
В дверях Кованда обернулся, взглянул на постель Гастона, щелкнул каблуками и, салютуя, поднял руку.
— Лихо у меня получается, а? Гилевская выучка!
Он повернулся и уже взялся было за ручку двери, но вдруг ему что-то пришло в голову. С минуту Кованда стоял у дверей, задумчиво наклонив голову, потом вернулся в палату и снова присел на стул у постели Гонзика.
— Слушай-ка, — сказал он медленно и без прежней ухмылки. — Пока я не ушел, задам-ка я тебе один… этакий… в общем, личный вопрос.
— Отвечу на любой, — отозвался Гонзик. — Только не о том, зачем мне пистолеты.
— Это мне трын-трава, — отмахнулся Кованда. — Может, кто собирает их на память. Я этих коллекционеров всегда считал полоумными. Нет, мой вопрос о другом. — Он оглянулся на Гастона. — Француз вправду не понимает по-чешски?
— Голову даю на отсечение, — улыбнулся Гонзик.
— Ну и слава богу, — облегченно вздохнул Кованда и стал медленно снимать свои брезентовые рукавицы. Снявши, он положил их на колени, потом взял одну и начал ее тщательно рассматривать. Гонзик с улыбкой наблюдал за ним.
— Ты хотел задать мне какой-то вопрос, — напомнил он немного погодя. — Собрался было, а молчишь. Спрашивай.
Кованда сердито наморщил лоб и сунул руку в рукавицу.
— А ты не смейся над стариком, — упрекнул он. — И учти, что я тебе не съездил по башке только потому, что она у тебя вся в бинтах. Я тебя — просто-напросто… хотел спросить, — тихо произнес он и опять снял рукавицу, — красный ты или не красный? Взаправду ты коммунист? Как раз сейчас страшно мне хочется это знать!
Гонзик улыбнулся.
— А зачем тебе знать, скажи, пожалуйста?
Кованда рассердился. Он сжимал и разжимал кулаки и, не поднимая глаз, теребил свои рукавицы.
— Нужно знать, вот и все! — обиженно буркнул он. — И не спрашивай, зачем. Я тоже не допытывался, на что тебе хлопушки!
Гонзик вытянул руки вдоль тела на одеяле.
— А если я красный. Кованда, — тихо ответил он, — разве это причина, чтобы мы перестали дружить? Или чтобы мы перестали понимать друг друга?
На лбу Кованды выступили капельки пота. Он расстегнул воротник и положил кепку на рукавицы.
— Я и не говорил ничего такого. Любишь ты всякие заковыристые слова и выкрутасы. Я тебя спросил напрямик и хочу, чтобы и ты мне так же ответил.
Гонзик уставился на потолок.
— А зачем мне выкрутасы! Ты из тех людей, которым не следовало бы бояться слова «коммунист», а я не стыжусь своих убеждений. Да, если хочешь знать, я коммунист, и отец мой тоже коммунист, потому его и засадили в концлагерь. В партию я вступил потому, что с ней правда, дружище. Правда для всех справедливых и честных людей.