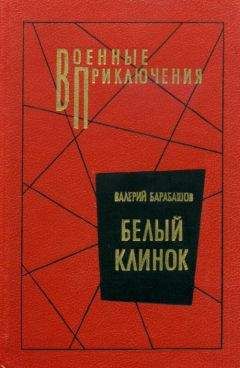По ночам, во сне, видя все эти кошмары, Олег кричал, и Нина Алексеевна вскакивала со свой «раскладушки», успокаивала сына как могла и умела — за эти недели, проведенные в больнице, она сама уже наполовину стала медиком. Во всяком случае, оказать первую, необходимую помощь могла теперь не хуже медсестры.
— Ну что ты, Олежек? Что случилось? — говорила она, обняв голову сына, а он, всхлипывая, ещё не отойдя полностью от сна, произносил:
— Стреляют… Машина горит… Кругом какие-то волчьи, оскаленные пасти. А волки — в беретах…
Она давала ему снотворное или сама делала успокоительный укол, и Олег засыпал, тяжело и долго, вздрагивал во сне, скрипел зубами и, наверное, в сотый или тысячный раз видел тот бой, на шоссе, у чеченского города Аргун, где был подбит и горел их военный грузовик «Урал»…
И всё же, кошмарные сны были цветочками: теперь и обезображенная, ампутированная конечность не хотела заживать. Рана гноилась, кровоточила, лечению не поддавалась.
Олег температурил, хандрил, пребывал в глубокой депрессии. Чувство безысходности, беспомощности медицины не покидало его. Да, врачи сделала всё, что могли. Но теперь ему никто уже не поможет — культя не заживёт…
Жизнь, судя по всему, кончается. Да и что это была бы за жизнь, — без ноги, с перебитой рукой?! Надо ли за неё цепляться? Одним человеком больше на земле, одним меньше…
«Отряд не заметил потери бойца и «яблочко» — песню допел до конца… «
Откуда это?… А, Михаил Светлов, «Гренада».
Грустное стихотворение. Но правдивое. В самом деле: кто будет горевать по одному бойцу?
«Пробитое тело наземь сползло, товарищ впервые оставил седло…»
«Седло» для него, Олега Александрова, — милицейская служба, любимое дело, кинология. Он много лет мечтал о ней, многого добился, а теперь…
Судьба вышибла его из седла.
Навсегда.
Он никому не нужен. О нём уже забыли, даже не вспоминают. Никто, ведь, не пришёл к нему в больницу — ни из управления, ни с питомника.
И Марина не пришла. Его любимая…
Ну и пусть. И он о ней думать не будет. Заставит себя не думать о Марине!
— Мама, а где Линда? — спросил Олег на второй день, как пришел в себя после операции.
— На питомнике, — отвечала Нина Алексеевна, радуясь тому, что он заговорил об этом, что возвращается к жизни. — Её из Чечни омоновцы привезли, Бояров позаботился. Вещи твои передали, зарплату.
— Я соскучился по Линде, мам. Как она там, без меня?… Сюда бы её, хоть на пять минут. Посмотреть, потрепать за уши…
— Ну что ты, Олежек? Кто её сюда, в больницу, пустит?! Поправишься вот…
Он покивал, прикрыл веки, вроде бы как согласился с тем, что сказала мама. Но мысли его были совсем другие — всё те же, мрачные, давящие психику.
Вдруг увидел себя на смертном ложе — спокойного и строгого, с остывшим лицом и восковыми руками, плачущую маму в чёрном, отца, хлюпающего носом, Марину, промокающую глаза душистым нарядным платочком. Почему-то он очень ярко представил себе именно этот душистый платочек, которым Марина вытерла ему щеку там, на железнодорожном вокзале, когда провожала его в Чечню, и поцеловала — чмокнула торопливо, вроде как и стыдясь этого дежурного, скорого поцелуя.
Она, наверное, и у гроба его будет стоять такая же невозмутимо-траурная, с вежливым и деланно-скорбным лицом, с каким стоят у домовин сослуживцы, чужие, в общем-то, люди, которые пришли сюда, на панихиду, чтобы совсем уж не демонстрировать своё равнодушие к жизни и смерти лежащего сейчас в гробу человека. Надо же показать остальным, что за душой у тебя ещё что-то осталось, что она, душа, точнее, совесть, ещё реагирует на горе и страдания других, и скорбит вместе, с другими, и сожалеет, и выражает искреннее соболезнование родным покойного… Потом Марина вздохнет, может быть кинет на себя торопливый неумелый крест, попросит кого-то там, наверху: царствие ему небесное, рабу Божьему, Олегу…
И уйдёт восвояси — дела. Жизнь-то продолжается. Службы не оставишь — Гарсона своего, питомник. У неё, Марины, тоже может случиться командировка в Чечню. И ещё неизвестно — вернёшься ли живой-здоровой…
Он, Олег, хорошо её понимает.
Тут же, у гроба, будут, наверное, стоять и его, Олега Александрова, непосредственный начальник, майор Шайкин, старлей Серёга Рискин, хозяин ротвейлера Альфонса, — и на их лицах будет нечто похожее на горе. Возможно, придёт и полковник Савушкин, начальник управления уголовного розыска, а может, и сам генерал Тропинин, и скажет что-нибудь справедливое и горькое: вот, дескать, недавно мы провожали в Чечню боевого своего товарища, офицера-кинолога… а теперь он лежит перед нами безмолвный… трудно в это поверить… мы должны помнить, равняться на таких, как младший лейтенант Александров…
И тогда он, Олег Александров, младший лейтенант российской милиции, погибший за Родину, за то, чтобы Чечня не отделялась от неё, будет вполне доволен. Всё-таки не зря прожил свои двадцать шесть лет.
Линду, конечно, не приведут попрощаться с ним. Не положено приводить собак на похороны людей. А жаль. Она его друг и помощник, самое верное и преданное существо, она была членом опергруппы, по-своему, по-собачьи, воевала в Чечне и тоже принесла России пользу.
Могли бы дать Линде возможность попрощаться с ним, хозяином. Они любили друг друга. Они оба ценили дружбу.
Такие, вот, воспалённые высокой температурой мысли и видения одолевали Олега Александрова.
Не знал он, просто не подумал, да и у матери не догадался спросить: что же это коллеги не идут к нему, проведать?
А их просто не пускали никого — ни Марину, на полковника Савушкина, ни даже самого генерала Тропинина. После операции человек в тяжёлом состоянии, какие тут могут быть визиты?!
* * *
А Линда всё это время жила в своем вольере, на питомнике УВД. Пришла уже настоящая зима, намело вокруг снега, было холодно. Хозяин её не появлялся, и она очень тосковала по нему. Работать Линду заставляли не часто — то Марина брала её с собой на задание, то старший лейтенант Рискин. Наверное, Гарсон болел, или Рискин жалел своего баловня Альфонса, берёг его нежные лапы…
Но большую часть времени Линда лежала на соломенной подстилке в глубине вольера. Это был у неё, как и у всех собак на питомнике, своеобразный домик, будка. Снег и ветер сюда не доставали, а холод Линда научилась переносить — всё ж таки она была строевой милицейской собакой, состояла на довольствии. И вообще — собачья жизнь суровая и простая. Это болонки там всякие и смешные пекинесы нежатся со своими хозяевами в тёплых постелях, а военные собаки всегда на службе, комфорт им ни к чему.
Линда терпеливо ждала хозяина. На душе у неё тоже была зима. Но он велел ей ждать, и она хорошо это помнила.
Гости пошли к Олегу много дней спустя, когда понизилась температура, и он заметно ожил. Но рана затягивалась плохо, зашивать её было нельзя.
… Первыми приехали генерал Тропинин с Савушкиным. Тропинин был в форме, вид его придавал значительность визита, как бы вдохновлял, настраивал на служебный тон, и Олег, увидев начальника УВД, попытался встать.
— Лежи, лежи! — несколько даже испугался Тропинин, замахал на него руками.
Осторожно пожал правую руку Олега, отметил про себя: «Тёплая, это хорошо.»
Поздоровался за руку и Савушкин, оба сели около койки. Тропинин бодро улыбнулся Нине Алексеевне:
— Ну, как тут наш герой?
Мама тяжело вздохнула.
— Боремся. Температура, вот, насколько спала, уже хорошо. А остальное…
— Ничего-ничего! Организм здоровый, парень он крепкий, молодой… Какая-нибудь потребность в лекарствах, питании имеется, Нина Алексеевна? Говорите, не стесняйтесь.
— Всё у нас есть, спасибо, Виктор Ильич.
— Подлечится, в санаторий отправим, в лучший. Я лично попрошу главного нашего областного медика.
— Сначала рана должна зажить, потом — протез…
— Да-да, простите, я и забыл! Это потому, Нина Алексеевна, что воспринимаю его не инвалидом… С протезом тоже поможем. В Москву поедешь, Олег, к лучшим мастерам-ортопедам… А здесь, в больнице, как условия? Вижу, на двоих палата?
— Соседа вчера выписали, теперь мы с мамой вдвоём.
— Надо попросить, Юрий Николаевич, — обратился генерал к Савушкину, — чтобы не подселяли сюда никого. Впрочем, я сам. Медики тоже большие бюрократы, убеждать надо.
Савушкин кивнул на принесённые пакеты.
— На фрукты налегай, Олег. Витамины вещь полезная.
— Спасибо.
— Привет тебе от всех офицеров управления. Переживают за тебя, желают скорейшего выздоровления.
— Им тоже всем привет.
— Как самочувствие?
— Ничего. Встал бы и пошел. Два месяца без движения, устал. Работать хочется.
— Поправляйся. Дело найдётся.
Конечно, полковник говорил эти слова для поддержания духа тяжело больного человека, Олег это понимал. Какой может быть разговор с инвалидом, и какое в милиции может сыскаться дело для человека с перебитой рукой и безногого?! Здоровые и то по двадцать всего лет служат. А тут — калека.