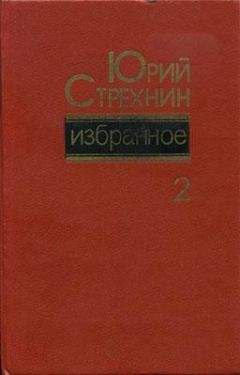Мне очень хотелось выяснить все это. Но я не спросил тебя об этом в письме. Боялся обидеть недоверием. Ведь я знал и верил: ты мне можешь сказать только правду. И сама скажешь ее. Какая бы она ни была. У тебя хватит мужества.
Теперь я могу только улыбнуться, вспомнив о всех своих терзаниях, которые вызвало во мне твое письмо. А что, Рина, если бы я воспользовался твоим разрешением? Сегодня этот вопрос звучит риторически и может вызвать только улыбку у меня и у тебя. Мы не были лишены сомнений по отношению друг к другу. Но как хорошо, что мы не потеряли веры друг в друга.
Беру в руки еще одно письмо… Мне особенно хорошо запомнился день, когда я получил его: тридцать первое декабря сорок четвертого. Мы уже твердо знали, что последний раз встретим Новый год на фронте, что в наступающем сорок пятом вернемся с войны, если останемся живы, что это будет последний год разлуки с дорогими сердцу людьми. Мы готовились встретить сорок пятый как год долгожданной победы.
Помню тот час зимних сумерек, когда наш полковой почтальон передал мне это письмо. Мы уже двое или трое суток стояли на месте, ожидая приказа возобновить наступление, которое перед этим вели довольно долго, идя по глубоким снегам через горы в Словакии, на дальних подступах к Моравской Остраве. Тех из нас, кому в эту ночь не обязательно было находиться под открытым небом, мороз согнал на хутор, зажатый меж лесистыми горами. На хуторе было три или четыре жилых дома, и все они были забиты военным людом. Когда в моих руках оказалось твое письмо, я сразу же поспешил выйти из дома: всегда, когда я получал письмо от тебя, я старался прочесть его наедине, ведь письмо — это встреча с тобой, разговор между тобою и мною о том, что касается только нас двоих, и это невозможно при посторонних.
В тот вечер был крепкий мороз — сухой, без ветра, и пальцы стыли мгновенно, когда я нетерпеливо надрывал конверт. Было темно, я вытащил фонарик и, светя им, начал читать. Сейчас я вновь читаю эти строки:
«Надеюсь, ты успеешь получить это письмо к Новому году…»
Твое желание, Рина, исполнилось как нельзя точно, и в этом я увидел тогда добрый знак. Этим предновогодним письмом ты ответила на мое, в котором я писал, что подходит к концу наше с тобой испытание разлукой, что я разделяю твои надежды на то, что, если когда-нибудь у нас будет сын, ему, когда он вырастет, не придется носить военную форму. Какими наивными и я, и ты, и многие были тогда! Считали, что, если фашизм будет добит, наши союзники так и останутся нашими друзьями и новой войны ждать будет уже неоткуда. А сейчас я с полной уверенностью говорю сыну, что он не ошибется, если выберет для себя судьбу профессионального военного.
…Помню, нестерпимо стыли пальцы, когда я читал это письмо под желтым шатким светом фонарика, прицепленного за пуговицу ватника на груди. Уже все письмо дважды и трижды было перечитано, а я все еще не прятал его: не потому, что мне еще и еще раз хотелось вникнуть в его содержание — в письме не было ничего необыкновенного. Просто хотелось смотреть на строки, написанные твоей рукой. А потом я еще долго стоял, глядел вверх на колючие синеватые зимние звезды и думал о тебе. Три страны тогда лежали между нами. Три страны и тысячи километров родной земли. Три года разлуки позади и еще сколько-то месяцев ее впереди. Я почему-то был уверен, что в эти месяцы, оставшиеся до конца войны, со мною ничего не случится. Впрочем, такая уверенность, если ты на фронте, явно или подспудно живет в душе всегда, без этой уверенности просто трудно было бы там существовать и выполнять свои обязанности.
Испытание разлукой… Я знаю, что это такое и в мирное время. Чем моложе люди, тем более трудным кажется им такое испытание. Вот Вовка… Даже удивляюсь, как это он отважился уехать от своей Фаи на строительство в горы. Хотя и недалеко и Вовка имеет возможность приезжать иногда, видеться с нею, но все-таки… По-моему, он и в университет намерен поступать вместе с Фаей только потому, что не мыслит быть с ней в разлуке хотя бы от каникул до каникул. И ради того, чтобы быть постоянно с нею, жертвует своим призванием, которое, на мой взгляд, определилось в нем уже давно и ясно. А может быть, и он и я ошибались в том, что его призвание — быть военным?
Большие дети — большие заботы. Не раз и не два вспоминаю эту поговорку, когда задумываюсь о том, как сыну без ошибок избрать верный путь в жизни. Не только в смысле профессии… Ни я, ни Рина в общем-то уже не приходим в изумление и страх от того, что в семнадцать лет наш парень влюблен, и, кажется, довольно серьезно. Чему быть, того не миновать. Мы не из тех родителей, которые считают, что всякая любовь до получения диплома пагубна. Но нам хочется, чтобы сын лучше проверил свои чувства. А что можем для этого сделать мы? Ведь единственное наше оружие — родительское слово. Как хочется предостеречь Володьку от возможных ошибок! Правда, иногда мне кажутся смешными мои заботы. Владимиру только семнадцать. Еще много что переменится в его стремлениях и привязанностях. Жизнь сама научит его разбираться в них. Все это так. Ну, а мы?.. Надеяться только на то, что все у Вовки сформируется само собой?
Снова перебираю старые письма, сбереженные мною во всех фронтовых переделках. А что, сын, если ты когда-нибудь прочитаешь их? Их и мои письма, полученные твоей матерью с фронта, она ведь их тоже сберегла, и они теперь хранятся вместе. Может быть, все эти письма как-то помогут тебе разобраться в своих чувствах?
Но слишком много в этих письмах личного, такого, что касается только нас двоих, твоей матери и меня. Не лучше ли, чтобы все, о чем говорят письма, так и осталось между мной и ею?
Нет, я не передам тебе этих старых писем, сын. Когда-нибудь позже, через годы, ты сам найдешь их.
А вообще — верно ли то, что мы с Риной хотим вести сына и дальше «за ручку», словно малое дитя? Лучший учитель — сама жизнь. Вспоминаю свою юность, юность тридцатых годов. Мы вступали в нее, усвоив основные нравственные принципы — «что такое хорошо, что такое плохо». А до остального доходили сами. Что-то не помню, чтобы мой отец или мать докучали мне наставлениями, кем быть и кого избрать в спутники жизни. Они заботились, пожалуй, больше всего о том, как бы скорее их птенец научился летать. А вот я или другие — не с чрезмерным ли тщанием следим мы за каждым шагом наших взрослых сыновей, стремимся чуть что поддержать за локоток, чтобы, упаси бог, дитя не оступилось, не зашибло ножку, на которой уже давно ботинок не мальчикового размера.
В чем причина такого чрезмерного опекательства?
Наверное, не только в том, что нашему поколению ой как досталось от суровой матушки-истории и мы хотим, чтобы на долю детей наших выпало шишек поменьше. Причина, по-видимому, и в том, что жизнь, которая сейчас и посложнее прежнего, но во многом и полегче, дает нам больше возможностей для забот о тех, кто продолжает нас. Не это ли желание дать детям все, чего не имели мы в свое время, заставляет нас с болезненным рвением предугадывать и направлять их первые шаги в самостоятельной жизни?
Предугадывать и направлять… Собственно, в этом ничего плохого нет. Но необходима мера забот. А ее превышение порождает инфантилизм, запоздалую детскость, когда сыновья и дочери до тридцати лет не мыслят себе самостоятельной жизни без помощи пап и мам или хотя бы без их наставлений. И не слишком ли мы опасаемся предоставить взрослым детям нашим достаточные возможности до всего доходить своим умом, внушая им, что на их пути все уже решено и вымерено, определено наперед?
«Э, дорогой товарищ Сургин! — ловлю я себя. — Да ты опять разворчался по-стариковски! За такие настроения тебя следует, пожалуй, отправить на пенсию… Наговариваешь на молодых, в том числе и на собственного сына».
И действительно, в чем я нашел у Вовки стремление оставаться под родительской опекой? Парень в семнадцать уже считает себя личностью независимой, сам на себя зарабатывает и не побоялся покинуть родительскую крышу. А парни чуть постарше его, которые уже носят солдатские шинели? Высокая мера ответственности определяет в них и высокую меру самостоятельности. Коснись до дела — не подведут. Послужил я, видел тому примеры.
…Складываю в аккуратную стопку просмотренные мною старые письма. Буду хранить их и дальше. Как напоминание о том, что мы умели ждать и верить, если это было даже и нелегко.
2Ждать и верить… Но только одно это — еще не гарантия счастья. Вот Макарычев и ждал, и верил, а в результате?
Однако почему я снова вспомнил о нем? В дивизии я знаю не один десяток лейтенантов. И не у одного Макарычева случаются неприятности в личной жизни или по службе. А я в последнее время беспокоюсь именно о нем.
Все-таки надо бы ему повидаться с женой. Пусть до конца разберется в своих отношениях с нею, может быть, кончит свои терзания — так или этак. Хотя Макарычев и не просил меня, я говорил об его отпуске с Рублевым. Но тот и слышать не хочет о каких-либо личных делах и переживаниях лейтенанта, на которого все еще сердит. Ведь как ни говори, а печальная история с бронетранспортером довольно дорого стоила всему полку. И жаль, что мне не удалось этого предотвратить. Я-то понимаю не проходящую до сих пор досаду Рублева. Фамилия Макарычева, доселе не очень известного в дивизии командира взвода, после учений довольно часто упоминалась в различных выступлениях, когда речь шла о недочетах в работе. Правда, за последнее время его фамилию в этом смысле уже почти перестали упоминать, об этом постарались и я, и Левченко, который не считает ошибкой благодарность, объявленную им Макарычеву.