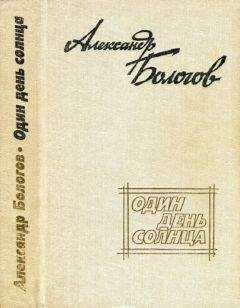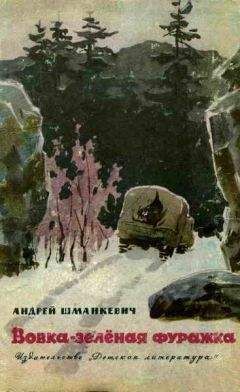— А и не надо.
— А я и так.
— Ладно, — Нюрочка встряхнула фартук, — будешь думать, еще хужей будет и руки совсем опустятся. А как же нам с тобой без них, кто подопрет?
— Никто… — опять подголоском откликнулась Ксения. Она потрогала, где лежит за пазухой тугой узелок с едой, чуть поправила его и уже у порога сказала — Может, приходить помочь тебе? Или пополоскать на речку схожу, как вернусь с работы? У меня коромысло хорошее, а валек твой возьму…
Нюрочка огляделась в полной мыльного туману кухне, отозвалась неуверенно:
— Рази что пополоскать или воды принесть, поносить… Я, правда что, еле взбираюсь на берег. Пока вальком колочу, вся спина занемеет, за бельем не попнуться…
Нюрочка успела только, освободив девок, переложить дышащее паром белье в корыто и залить водой, как Ксения опять, белая, необычайно потерянная, появилась на пороге. Сразу упала в кухне на стол и уронила голову, завыла глухим воем.
— Да что ты, господи?! — Потная Нюрочка провела по подолу мокрыми руками и подступила к подруге. — Ксюша, да что такое? Не холуй ли этот опять встрелся? Да нас… ему в бельмы!..
Ксения подняла забитые слезами глаза и быстро-быстро затрясла головой, так что капли сорвались с век и растеклись по лицу.
— Да что еще? Ну, что? — Нюрочка в нетерпении ухватила ее за руку.
— Лина…
— Что Лина?
Ксения провела одеревенелой рукой по горлу.
— Ножиком?! Себе?!
— Не-ет… — Ксения опять затряслась, как в припадке. — В веревке…
15
Вовка на рубке хвороста рассек себе топором ногу. Пока мать пришла с работы, они с Костькой все успели сделать, чтоб она не узнала об этом или бы узнала как-нибудь позже. Палец со сбитым ногтем сначала посыпали золой, потом, испугавшись заражения, опять промыли рану, и Костька сбегал к Трясучке за йодом. Йод у нее уже весь вышел, и она, — узнав, зачем он понадобился, — дала жирного листа и какой-то темной мази и велела ногу завязать.
Дырку в опорке-сапоге, чтобы мать не увидала, кое-как зашили.
Сапог она сразу, конечно, не заметила, а хромоту Вовкину углядела в ту же минуту, как он захотел на двор и попытался пройти мимо нее на ровных ногах. Но они показались ей дурашливо ровными, так по нужде не шагают, если даже приспичит, и тут она все и выведала как прокурор. И раскрыть рану велела, и сама, переменив тряпку, заново перевязала палец и дала для удобства и чистоты надеть сверху стираный детский чулок. Туго было, больно поначалу, когда все раскрылось, тут уж и скрывать было нечего, но Вовка натянул его. По этой причине и пришлось с Ленкой остаться ему, а Костьке идти с матерью в деревню.
Ближние села были давно обхожены. Дороги к обмену все удлинялись и удлинялись.
Ксения и в этот раз шла не с пустыми руками, не побирушкой: несла в прилаженном за спиной мешке две сковородки и иглы для примусов, несколько кусков настоящего мыла, новые лопаты без черенков, даже бусы из мелких серебряных бляшек, подаренные Трясучкой за долгий уход при случившейся у ней желудочной болезни.
Чуть не померла, а выжила Серафима Игоревна, и это на ее, Ксеньину заботу она относит. Что правда, то правда, но не в одной ней, конечно, дело. Все по очереди дежурили, Вовка с Костькой тоже сидели и обихаживали больную, пока мать была на работе, пришлось побороть неудобство. Первый еще как-то быстро понял свое дело, а родной сын на первых порах и тазик подать не мог.
Все обошлось, слава богу, хотя Серафима Игоревна, совсем до последнего исхудавшая, и со смертью уже, кажется, согласилась, даже указала, во что одеть при кончине. А что же делать? Ксения и одеянье намеченное отобрала, и пообещала людей найти, чтобы гроб сделали, а сама и на базар не раз сходила вещи снесла — бараньего сала для питья, рису для отвара смогла достать, и к Мироновой бабке бегала за травами от желудка. Ей бы, Серафиме Игоревне, курить бросить, дать бы костям старым свежим воздухом подышать, но это — нет, не по нее, не по ее силам. Этим — еще даже говорит — только и держусь. Незаметно сдружившись с Ксенией, почувствовав доверие, о себе многое порассказала, о сестре своей ленинградской, о муже — об этом сама Ксения ее попросила, не выдержала.
— Я, — говорит, — Ксения, деточка, мало кому о нем рассказывала. Но, верьте мне, он прекрасный человек, он был вечное мое счастье в жизни, и я единственное чем живу — это его вспоминаю и все те случаи, когда он что-то говорил мне или что-то делал…
Вот так. Жена — есть жена. Сама работала учительницей музыки. Значит, она и сама очень образованная. Правда, в полдоме — он большой, с внутренней стенкой, со вторым ходом с другого проулка, — поселили добавочную семью, которая потом эвакуировалась. Вот в эту половину и перебрались их бывшие постояльцы, когда Костька легкие простудил.
Если подумать, неизвестно еще кто кому помог: Ксения с ребятами ей или же она всем им вместе. Сколько вещей хороших ей пришлось снести на базар, на еду отоварить?! Это просто судьба сжалилась.
— Случается, что и честному человеку повезет, деточка… — У нее на все случаи одно это слово.
Вот считает, что желудок ее на Линину судьбу отозвался, а не сама ли задумывала чего?.. Задумывала, а как другая решилась да сделала, так и спохватилась, так и душа — чуть не вон…
— Мам, сколько прошли?
Сыновний оклик словно разбудил, Ксения огляделась:
— Сколько?.. Сам считай… Звягино вон показалось, — значит, уже восемь верст отшагали, километров.
— А когда отдыхать будем? — Костька поравнялся с придержавшей шаг матерью, пошли рядом.
— А хочешь, в Звягине и остановимся, отдохнем?
— Думаешь, там чего возьмут? — Он слегка встряхнул свой мешок, в котором нес Трясучкины чайные чашки. Ксения даже забоялась:
— Осторожно, сынок! У тебя же там, сам знаешь… Эти вещи дорогие — фарфор…
В Звягине они даже в дома не стали заходить, и на них никто не обратил внимания, не глянул из-за окна, как в иных местах: тут, под городом, уже и к нищим на стук не выходили, и в обмен все отдали, что можно было. Надо было идти в дальние деревни — за Укромы, Утечу. Это Ксения понимала, потому и сократила как могла первый отдых, заторопила сына в нелегкую дорогу, которая дома всегда выглядит проще.
Сначала Ксения, чтобы отвлечь сына от ходьбы, скоротать тягучее время, затевала разговоры, расспрашивала о том, чего могла не знать по дому из-за своей работы и постоянных хлопот о пропитании да топке. Однако разговоры быстро утомили Костьку, к долгой ходьбе он не был приучен, и она пошла молча, шагах в двух впереди, чтобы тянулся. Сама она ходить молчком не умела. Живой ли, мысленный ли собеседник, сама ли она в его роли — был постоянным ее спутником, помогавшим оглядеться в жизни, поискать выход из очередного тупика. Она даже сама не понимала, да и не думала об этом, каким образом — иногда, кажется, и против ее воли — приходила к ней именно эта, а не иная мысль и, неотвязная, жила в ней, покуда так же незаметно и непонятно не уступала места другой — такой же неотвязной и своевольной.
Отмеченная перед остановкой в Звягине короткой зацепкой памяти, Лина после отдыха ожила в ней всей своей жуткой участью. Ушла-истлела Трясучка, истаяло что-то попутное, все место заполнила Лина…
Сначала Ксения, не успев узелка развязать — хотела отделить полскибки хлеба и одну конфетную скрутку Лининой четверке, — кинулась на кухню: в ту сторону, на дверь, указали, не вылезая из-под одеяла, ребята, когда она, пройдя в раскрытую дверь и увидав их скулящих в боковой комнате, спросила, где мать. Ребята Линины были терпимцы не по годам, никогда от них слез серьезных и хныканья не было слышно, и это их общее корябающее голосение сразу напугало Ксению.
Ни в кухне, ни в сенях матери не оказалось. Ксения прислушалась, ухо ничего не поймало, подняла крышку подпола, спустилась и обшарила в потемках пустую землю. Где же, господи? Где свалилась от слабости или болезни? Куда могла уйти со своими ногами? Далеко не могла…
Именно не могла, и не ушла, конечно, в сарайке обнаружилась Лина… Сидит, вроде как отдохнуть притулилась к стенке, и голову набок повернула.
— Лина! Лина!..
Только когда подошла да тронула ее слегка, и заметила Ксения веревку вдоль доски, вытянутую до каменной твердости.
— Ах, Лина, Лина! — так повторяла в плаче Ксения и бежала назад к Нюрочке, дороги под собой не чувствовала. И вместе с нею — одна никак не смогла, уже охолодела покойница — отсекла середину веревки, снимала-выпрастывала соседку из петли… До слез намучились обе, никак было не поднять и не перенести тяжелую, пока не пришло в голову оставить в сарае да там же и обмыть, и обрядить на застеленном полу.
Тут вот впервые и помогла Трясучка, Серафима Игоревна, пошли к ней, не к кому было больше. Поначалу узнавши про такую Линину кончину, долго тряслась, пуще обычного, переживала, потом как-то заставила себя, переборола, все перебрала, как поступить и чем помочь. Лошадь нашли, на что и не рассчитывали, и мужик-возчик за деньги и табачную придачу — все ее, Серафимино, конечно, — согласился и ребят Кофановых отвезти в деревню, к Лининым родственникам, где прижилась до этого и их бабка.