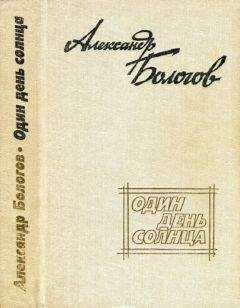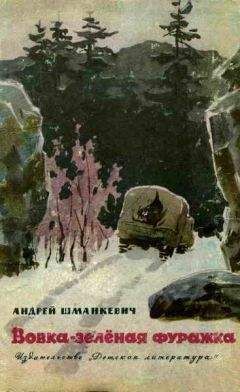В деревне тоже пришлось всего наглядеться. Главная родня — бабкина сватья — тоже оказалась в ветхих годах, уже давно не командовала в доме, не распоряжалась ничем, кроме своего запечного угла, где теснилась теперь с городскою кумой — как привыкла называть Линину старуху.
Молодайка, когда все сообразила и разглядела новых нахлебников, устроила припадок, такая неприятная оказия ей вышла-выпала. Но Ксения уже понаблюдала, окинула глазами хату и все, что в ней было: не так, не так здесь живут, как она, или как жила, царство ей небесное, Лина в городе, — в чугуне на лавке картошка вареная нечищенная, капуста кислая в миске подсохла уже, и хлеб, ясное дело, есть — чувствуется носом.
Ну, хозяюшка, ну, родственница!.. Чужой человек — Трясучка — сердце не могла успокоить, узнавши про Лину, на такой расход пошла по похоронам, ребят содержала неделю — серьги старинные отдала в продажу… А эта поохала-поохала для блезиру, а как до дела дошло, чирьем вздулась — не трогай!..
Ксения долго терпела, никак не откликалась на хозяйскую комедию, пока не догадалась сказать:
— Ты их покорми пока да погляди, какие хорошие-то они, — она показала на лавку, где в ряд сидели тихие сиротинки, — вон сколько мужиков будет в дому, братьёв твоим двоим. — Дочек ее имела в виду.
— Да что ж я — хомут такой, куда я их дену, чем кормить стану? — продолжала та свое, но уже потеряла разгон, потому что уже завязалась с едой, поставила круговую миску на стол, ложки стала искать.
— У тебя и корова есть…
— Да что, если корова? С прошлого лета сена и то не добрали, да мужик был, а как теперь, сколь еще до травы? Уже и солому с повети подрубаю…
Это она уже в отступление пошла, и Ксения тоже мягче стала говорить:
— Ну, а куда же их, сама посуди? Я им чужая совсем, да и своих трое, они у меня с голоду точно — помрут. Помрут, и все. А ты все же тетка, а захочешь, так и матерью станешь. Не вернется отец, в приют отдашь…
— В какой приют? Когда?
— Когда наши вернутся…
Молодайка чуть глаза свои не выронила — так уставилась, но ничего, подышала-подышала рыбьим ртом и смолчала.
— И дом ихний теперь тебе пойдет, — добавила Ксения для привеса. — Я замок нашла, поставила, вот и ключ могу передать. А проведывать мы их будем, может, что и принесем когда…
Ключ молодайка взяла.
До тех пор покуда не выросли из-за бугра Укромы, не дохнуло от них надеждой отдыха и утоления голода, Костька еле передвигал ноги — сил после долгой болезни он еще не накопил. Ксения не ругалась, выдерживала, видя, с каким трудом одолевает он последние версты от шоссейного поворота. В низких местах, где проселок еще не подсох, на опорки налипали глинистые лапти, тяжелили и без того неверный шаг, тут она ждала, тянула руку, — в сцепке было остойчивей.
Солнце в последние дни быстро набирало силу, но крепкие морозы всей зимы прошли глубоко, донник стойко держал наружную влагу, распутица обещала быть долгой. Однако уже шевелились люди по деревням, слышно было копошение на задворках — старики да бабы прикидывали, когда и с чего начинать работу на усадьбах.
Дуся с дочками тоже возилась у хлева. Увидела золовку с сыном, бросила вилы, пошла навстречу, обтирая друг о дружку ноги на ходу. Девчонки остались возле корыта, с лямками на прибитых, на манер носилок, ручках, стояли, смотрели на гостей. Потом и они подошли, скинули грязную обувь у порога.
За столом, угощая тем, что было в печи, Дуся поведала о своем житье, послушала вести, принесенные мужниной сестрой. Несколько раз утерла подолом глаза и нос, когда Ксения рассказала о Лине и ее сиротах, покивала одобрительно, слушая про старую инженершу…
— Да, да, Ксюша, все правильно говоришь, — соглашалась со всем ее пониманием жизни, — все правильно. Одна беда идеть — другую ведеть…
Дуся заметно сдала против зимней поры: и голосом осела, и лицом похужела, — Ксения сразу увидала это, как только та приблизилась во дворе. Не в пример зимнему был и обед — кулеш пшенный жиденький на воде и каждому по огурцу соленому, на счет.
— Хлеба не пекла, — сказала Дуся, извиняясь. — Есть мучицы немного, да берегу, за Клавдей Кругловой две ковриги, шешнадцать фунтов с походом, должна отдать.
— Да что ты, и так сытые, — поблагодарила Ксения.
Дедово место у святого угла — как пустое окно: никого нет за ним, а все зовет оглянуться.
О нем разговор был с самого начала, как только в хату вошли и Ксения по обычаю спросила про общее здоровье. Как говорится: не ищи беды, беда сама тебя сыщет. Так и тут. Не успела поинтересоваться, как Дуся рассказала об их несчастье, о том, что не повезло свекру, как бил его на крещенье полицай Пашка Егоров с дружками из Утечи, когда на двух санях заявился в Укромы из волостной управы. Донес кто-то, что дед Кирилл крест со звездами поставил на луневскую могилу в лесу, Пашка и приехал суд учинять.
— Он на другое дело собрался, а тут — попутно, — поглядела отчего-то Дуся на окна. — Он уже шишка там, — вскинула она голову, — не раз отличался.
— Пашка? Егоров?
— Да-а…
— Дружком близким еще считался.
— Ближняя собака скорей укусит. Он и Князева Ми-хал Егорыча выследил…
— Михал Егорыча? Да что ты?! — Ксения зажала рот, будто сама говорит что не надо.
— Да-а. Это еще до нашего деда. Он к леснику приходил, оказывается, а все считали, что отступил, вакуировался. У лесника его Пашка и застукал. Вернее сказать, как застукал, живого-то не взял, Михал Егорыч себя гранатой взорвал и дружка первого Пашкинова за собой тоже… Ага… Ну, Егоров и почертил, поквитался за свою промашку. И дом спалил, и людей с ним, кто все там были…
— Погоди, Дуся, какого лесника? Не Ряднова ли?
— Ну да, его. На Думчинском участке его дом стоял, он сам его рубил.
— Дак у него ж семья большая была…
— А вот всю и порешил, а кто в окна лез, он из ружья стрелял.
— Господи ты, боже мой!.. Иро-од!..
— Ой, Ксюша милая, не верил никто… Сперва еще был ничего, только девкам проходу не давал, а с зимы — ну как зверь стал. Пришить хвост — так настоящий пес. — Дуся поймала Ксеньин взгляд и понизила голос — Видно, поперли их где-нибудь, поперли…
— Немцев?
— Да… Хозяев его нонешних…
Дуся вернулась к своей беде:
— А свекру он чуть глаз не выбил, собака, проволокой скрученной хлестанул. Кровь потекла, думали, с глазу, но цел остался, только закраснелся весь. «Ты что, — говорит, — звезды на кресте божьем ставить удумал? Забыл, какая власть ноне?»— «Да это у меня старый крест-то, — дед ему. — Я и твоему родителю такой ставил». — Она всплеснула руками — Представляешь, чего сказал? Про отца-то? Каково ему было перед дружками-то слушать?
Ксения закивала:
— Да, да… Я тоже его знала, отца-то.
— Дак, а как же, объездчиком в лесничестве служил.
— Ну да.
Дуся вдруг умолкла, потом перевела дух и спокойней добавила:
— Чего, в общем, говорить, и проволокой этой стебал, и ногами пинал, когда дед завалился с глазом. Хорошо в полушубке был, печенки хотя не отбили.
— Ах, иро-од! Ах, холуй продажный!.. Убить бы мог…
— Убить не убить, а калекой бы сделал.
— И никому не пожалишься…
— Староста хоть у нас хороший — Круглова Зиновия отец, Семен Пантелеич. Он и заступился: мастер, говорит, у нас единственный, и на бороны, и на кресты, а вы его прибьете… Он по церквам работает, и сам крещеный, крест на себе носит. И могильный крест у него, говорит, в кузне старый валялся, еще советского время заказу — а ему что прикажешь делать: он мастер, его просют, он и делает… Поизмывались, поизмывались — отпустили. К шоссе подались, по другому делу какому-то…
— А счас-то где дед Кирилл? Отошел хоть? А глаз-то как?
— Работаеть, куеть. Лежал недели три, отогревал битые места, на глазу примочку держал. Ванюшка, говорить, — это мой-то — придеть, возьметь должок, посчитается. А отлежался — так и ушел. Теперь далёко где-то. Два раза от него и была весть: раз муки с полмешка привезли люди незнакомые, а второй — пшена и меду… Ага, фунтов пять…
— Да что ты?
— Ага. Куеть, работаеть где-то. А сюда, видишь, и ногой не появляется.
— А про Ивана-то ничего не слыхать?
— Да откуда, Ксюша? С той стороны как же будет что? Не-ет…
— Про наших тоже ничего… Как уехали в последний раз, так — как в воду…
Уже сидя за столом, в конце обеда, продолжая делиться с невесткой своими заботами, Ксения сказала, что и ей до зарезу нужен мед для больной инженерши, с которой она подружилась и которой хочет помочь за ее душевность и отзывчивость, что для этого она и принесла из города дорогую посуду и материю. Дуся согласилась сходить с нею в Утечу и дальше, в соседние деревни, где некоторые хозяева держали пчел до сих пор.
Едва дождавшись их ухода, Костька спросил сестер, цела ли колхозная кузня, в которой они с Вовкой и дедом были в их последний приход, и, получив утвердительный ответ, решил, пока нет матерей, сходить туда.