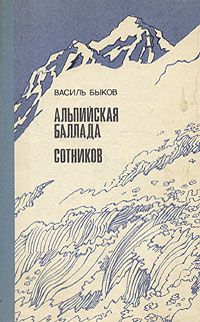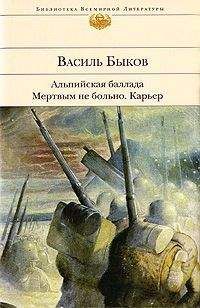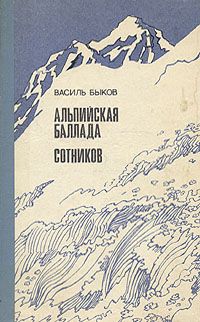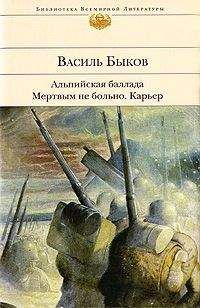— Ты это… Пить не хочешь? Воды, а?
Она вздохнула и умолкла, глядя на него, затаив в глубине широко раскрытых глаз раскаяние и бездну тепла к нему.
— Вода? Аква?
— Да, воды, — отозвался он. — Вон там, кажется, ручей. Айда!
Он быстро вскочил, она тоже поднялась, обхватила его руку повыше локтя и щекой сиротливо прижалась к ней. Другой рукой он погладил ее волосы, но, почувствовав, как она внутренне напряглась, опустил руку.
Так они не спеша пошли к краю луга.
Ручей был неглубокий, но очень бурный — широкий поток ледяной воды бешено мчался, взбивая по камням желтую пену и бросая ее на влажный каменистый берег. На одном из поворотов он намыл в траве широкую полосу гальки, перейдя которую Иван и Джулия вдоволь напились из пригоршней, и девушка отошла к берегу. Иван закатал разорванные собакой штаны и забрался глубже в воду. Ступни заломило от стужи, стремительное течение могло сбить с ног, но ему захотелось умыться, так как пот разъедал лицо. Он потер свои колючие, заросшие щеки, намереваясь увидеть отражение в воде, но бурное течение не давало этого сделать. «Видно, зарос, как бродяга», — с неожиданным беспокойством подумал он и оглянулся на Джулию.
— Я страшный небритый? — спросил он девушку. Но та не отозвалась — неподвижно сидела в задумчивости, глядя в одну точку на берегу.
— Говорю, я страшный? Как старик, наверно?
Она встрепенулась, вслушалась, стараясь понять вопрос, и, увидев, что он теребит свои заросшие щеки, вдруг догадалась:
— Карашо, Иван. Очэн вундэршон.
Иван умывался и думал, что с ней что-то случилось — девушка явно чем-то встревожена, что-то переживает, такой сосредоточенной она не была даже в самые трудные часы побега. Вовсе не в ее характере была такая задумчивость. Значит, какую-то боль причинил ей он, Иван. Но он, наоборот, избавился от всех своих прежних тревог и на этом луговом раздолье просто отдыхал душой. Ему было хорошо с ней, хотелось рассеять ее тревогу, увидеть Джулию прежней — искренней, веселой, доверчивой. Должно быть, надо было приласкать ее, успокоить. Только Иван все не мог перешагнуть через какую-то грань между ними, хоть и желал этого. Что-то застенчиво-мальчишеское стремилось в нем к девушке, но он сдерживал себя, колебался, медлил.
Умывшись, он набрал в пригоршни воды и издали брызнул ею на Джулию — девушка вздрогнула, недоуменно взглянула на него и усмехнулась. Он тоже улыбнулся — непривычно, во все широкое, заросшее бородой; лицо:
— Испугалась?
— Нон.
— А чего задумалась?
— Так.
— Что это так?
— Так, — покорно сказала она. — Иван так, Джулия так.
Несмотря на какую-то тяжесть в душе, она охотно воспринимала его шутки и, щуря глаза, с улыбкой смотрела, как он, оставляя на гальке следы от мокрых ног, неторопливой походкой выходил на траву.
— Быстро ты наловчилась по-нашему, — сказал он, припоминая недавний их разговор. — Способная, видно, была в школе?
— О, я била вундеркинд, — шутливо сказала она и вдруг, всплеснув, руками, ойкнула: — Санта мадонна — ильсангвэ!
— Что?
— Кров! Кров! Ильсангвэ!
Он нагнулся: по мокрой ноге от колена ползла узкая струйка крови — это открылась рана. Ничего страшного: до сих пор он не нашел времени осмотреть ее, но теперь, сев возле девушки, закатал штанину выше. Нога над коленом была сильно расцарапана собакой и, намокнув в воде, закровоточила. Джулия испуганно наклонилась к нему и, будто это была бог знает какая рана, заохала:
— О, Иванио! Иванио! Очэн болно! О мадонна! Где получаль такой боль?
— Да это собака, — смеясь, сказал Иван. — Пока я ее душил, она и царапнула.
— Санта мадонна! Собака!
Ловкими подвижными пальцами она начала ощупывать его ногу, стирать свежие и уже засохшие пятна крови. Он откинулся на локтях, ощущая ласковость ее прикосновений; на душе у него было хорошо и покойно. Правда, рана кровоточила, края ее разошлись и, хотя было не очень больно, ногу полагалось перевязать. Джулия приподнялась на коленях и приказала ему:
— Гляди нах гора. Нах гора…
Он понял, что надо было отвернуться, и послушно выполнил ее просьбу. Она тотчас же что-то разорвала на себе и, когда он снова повернулся к ней, уже держала в руках чистый белый лоскут.
— Медикаменте надо. Медикаменте, — сказала она, собираясь начать перевязку.
— Какой там медикамент? Заживет как на собаке.
— Нон. Такой боль очэн плехо.
— Не боль — рана. По-русски это — рана.
— Рана, рана. Плехо рана.
Он оглянулся и, увидев неподалеку серую бахрому похожей на подорожник травы, оторвал от нее несколько мелких листочков.
— Вот и медикамент. Мать всегда им лечила.
— Это? Это плантаго майор. Нон медикаменте, — сказала она и взяла из его рук листья. Он сразу же выхватил их обратно.
— Ну что ты! Это же подорожник, знаешь, как раны заживляет?
— Нон порожник. Это плантаго майор по-латыни.
— А, по-латыни. А ты и латынь знаешь?
Она шевельнула бровями:
— Джулия мнего, мнего знай латини. Джулия изучаль ботаник.
Он тоже когда-то знакомился с ботаникой, но уже ничего не помнил и теперь, больше полагаясь на народный обычай, приложил листки подорожника к распухшей ране. Девушка протестующе покачала головой, но все же начала бинтовать ногу. Впервые Иван почувствовал ее превосходство над собой. Бесспорно, образование у Джулии было куда выше, чем у него, и это увеличивало его уважение к ней. Однако Ивана не очень беспокоила рана, его больше интересовали цветы, названия которых были ему незнакомы. Потянувшись рукой в сторону, он, сорвал стебелек, похожий на обычную луговую ромашку.
— А это как называется?
Проворно бинтуя лоскутком ногу, она бросила быстрый взгляд на цветок:
— Перетрум розеум.
— Ну, совсем не по-нашему! А по-нашему это ромашка.
Он сорвал другой — маленький, синий цветочек, напоминавший отцветший василек.
— А это?
— Это?.. Это примула аурикулата.
— А это?..
— Гентина пиренеика, — сказала она, взяв из его рук два небольших синеньких колокольчика на жестком стебельке.
— Все знаешь. Молодчина. Только вот по-латыни…
Джулия тем временем кое-как перевязала рану — сверху на повязке проступило коричневое пятно.
— Лежи надо. Тихо надо, — потребовала она.
Он с какой-то небрежной снисходительностью к ее заботам подчинился, вытянул ногу и лег на бок, лицом к девушке. Она поджала под себя колени и положила руку на его горячую от солнца голень.
— Кароши руссо, кароши, — говорила она, бережно поглаживая ногу.
— Хороший, говоришь, а не веришь. Власовцем обзывала! — вспоминая недавнюю размолвку, с упреком сказал Иван.
Она вздохнула и рассудительно сказала:
— Нон влясовец. Джулия вериш Иванио. Иванио знат правда. Джулия нон понимат правда.
Иван пристально посмотрел в ее строгие опечаленные глаза:
— А что он тебе наговорил, тот власовец? Ты где его слушала?
— Лягер слушаль, — с готовностью ответила Джулия. — Влясовец говори: руссо кольхоз голяд, кольхоз плехо.
Иван усмехнулся:
— Сам он подонок. Из кулаков, видно. Конечно, жили по-разному, не такой уж у нас рай. Я, правда, не хотел тебе всего говорить, но…
— Говорит, Иван, правда! Говорит! — настойчиво просила Джулия. Он сорвал под руками ромашку и вздохнул.
— Вот. Были неурожаи. Правда, разные и колхозы были. И земля не везде одинаковая. У нас, например, одни камни. Да еще болота. Конечно, всему свой черед: добрались бы и до земли. Болот уже вон сколько осушили. Тракторы в деревне появились. Машины разные. Помощь немалая мужику. И работать начали дружно в колхозе. Вот война только помешала…
Джулия придвинулась к нему ближе:
— Иван говори Сибирь. Джулия думаль: Иван шутиль.
— Нет, почему же. Была и Сибирь. Высылали кулаков, которые зажиточные, вроде бауэров. И врагов разных подобрали. У нас в Терешках тоже четверо оказалось.
— Враги? Почему враги?
— За буржуев стояли. Коров колхозных сапом — болезнь такая — хотели заразить.
— Ой, ой! Какой плехой челевек!
— Вот-вот. Правда, может, и не все. Но по десять лет дали. Ни за что не дали бы. Так их тоже в Сибирь. На исправление.
— Правда?
— Ну, а как ты думала.
Лежа на боку, он сосредоточенно обрывал ромашку.
— Иван очэн любит свой страна? — после короткого молчания спросила Джулия. — Беларусь? Сибирь? Свой кароши люди?
— Кого же мне еще любить? Люди, правда, разные и у нас: хорошие и плохие. Но, кажется, больше хороших. Вот когда отец умер, корова перестала доиться, трудно было. На картошке жили. Так то одна тетка в деревне принесет чего, то другая. Сосед Опанас дрова привозил зимой. Пока я подрос. Жалели вдову. Хорошие ведь люди. Но были и сволочи. Нашлись такие: наговорили на учителя нашего Анатолия Евгеньевича, ну его и забрали. Честного человека. Умный такой был, хороший. Все с председателем колхоза ругался из-за непорядка. За народ болел. Ну и какой-то сукин сын донес, что он якобы против власти шел. Тоже десять лет получил. По ошибке, конечно.