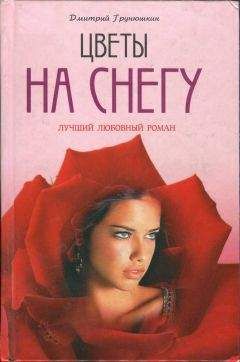Должен сказать, что и у меня на душе немножко полегчало, последние месяцы я был настолько зол на немцев, что просто не мог оставаться на земле. Это связано с некоторыми личными обстоятельствами, о которых я не хотел рассказывать, чтобы не прерывать цепь описания боевой хроники нашего полка. Думаю, пора немного рассказать о перипетиях моей судьбы в этом бушующем огненном вихре, для чего предлагаю вернуться читателю на несколько месяцев назад, когда мы еще стояли перед высотами Миус-фронта и Саур могилы.
Конечно, оказавшись на юге, я сразу же почувствовал мощный зов родного дома. До него-то и было рукой подать — всего какие-то десятки километров. Но боевая нагрузка была очень велика, летчики сильно уставали, нередко приходилось самому садиться в кабину истребителя — немцы, сидевшие в Таганроге, держали нас в постоянном напряжении. На всю воздушную армию нас летало два замполита: я и Верховец. Остальные тихо сидели на земле, и о них никто не вспоминал, но, попробуй «летающий комиссар» отлынивать от полетов — сразу укажут и сверху и снизу, не посмотрят, что твои коллеги в других полках всю войну наблюдают за воздушными боями с земли. Но чем больше теплело, тем больше меня тянуло в Ахтари, которые, как я знал, были уже освобождены от немцев. Очень хотелось отдохнуть душой в родных местах, хоть денек-два. Видимо, замкнулся какой-то еще один круг моей судьбы — я вернулся к местам, где родился, и не только тело, но и душа, внутренний хронометр, заведенный судьбой, требовал отдыха.
Много всяких кругов навертела судьба весной 1943-го на юге. Я вернулся в места, где пас коров оборванным пастушком, майором, в орденах, служащим в элитных истребительно-авиационных частях. Немцы, предки которых — готы, бродившие по этим местам полторы тысячи лет назад и изгнанные азиатскими кочевыми народами, снова изгонялись из этих мест яростью и многочисленностью славян. Завершался круг казачьей судьбы, славы и позора — часть казаков перешла на сторону немцев, действуя против нас по-казацки, решительно и свирепо, а значит, снова подставляя себя под тяжкий меч репрессий. Завершался рывок нашего народа к свободе. Ведь, бросаясь на немецкие позиции, добираясь до плюющихся огнем вражеских амбразур бросками штурмовых групп, во время которых до цели добирался только каждый десятый, как я это видел возле Саур-Могилы, наш народ действительно верил, что бьется за свою свободу и независимость, как писали в газетах. Но, чем больше мы побеждали, тем сильнее сжимался вновь обруч нашей внутренней неволи, тем более уверенно чувствовали себя особисты и прочие погонялыцики, уже приступавшие к разделу военной добычи. Круг замкнулся, и мы снова оказывались в неволе.
Погожим апрельским деньком нам сообщили, что немецкая авиация, в первый день Пасхи, нанесла сильнейший бомбовой удар по моим родным Ахтарям — особенно пострадали кварталы, где жили рыбаки — вдоль берега, рыбзавод, землечерпалка. Конечно, немцы нанесли удар по важнейшей базе продовольственного снабжения наших войск — рыба из Ахтарей поступала на продовольственные склады двух фронтов. Но был в этой бомбардировке и просто элемент озлобления: кто хотя бы раз в жизни впивался зубами в азовский балык или намазывал на свежий хлеб паюсную или зернистую осетровую икру, никогда не забудет об этом, становясь своеобразным наркоманом. А наркоманы, как известно, народ злобный и завистливый, и потому немецкие пилоты бомбили мои родные Ахтари с каким-то садистским удовольствием. Эта бомбежка, как будто окончательно отсекла меня от прошлого. В числе трех с половиной тысяч погибших ахтарцев были и друзья моего детства, и родственники, и хорошие знакомые, и просто люди памятные и колоритные. Именно в тот день в огне взрывающихся бочек с бензином, которые сбрасывали немцы, и разрывах авиабомб, погибли Ахтари моего детства. Сгорел рыбный завод, который я строил и работал на нем. Словом круг замкнулся — война отсекла значительную часть моего прошлого.
Ясным апрельским днем на аэродроме в Новошахтинске зазвучал сигнал боевой тревоги. Мы решили, что с Таганрогского аэродрома поднялась большая группа «Мессеров». Но вскоре выяснилось, что нас перебрасывают на Ейский Школьный аэродром для прикрытия всего рыбного района от налетов немецкой авиации.
Так я вернулся в родные места. Едва мы приземлились в Ейске, немного подзаправив баки из запасов горючего, уже переброшенных нашей передовой группой, как я повел восьмерку истребителей на Ахтари. Был ясный день, сверкало солнце. Я увидел, что прибрежные кварталы Ахтарей исчезли с лица земли, огромным пепелищем вклиниваясь в море цветущих фруктовых деревьев, вспенившееся по всей станице. Среди обгоревших руин копались люди — доставая трупы, раненых, спасая кое-какую утварь. Когда мы прошли на высоте в 1200 метров в сторону Садок, то люди принялись разбегаться и прятаться, думая, что вернулись немцы. Прошло всего несколько часов после немецкой бомбардировки, как обычно, мы появились поздно, да и нельзя прикрыть все населенные пункты сразу. Как не крути, а летчики, подобно Господу Богу, решают судьбу людей на земле более или менее свободно, и только летчик опасен для летчика. Когда мы возвращались, развернувшись над Садками, и прошли на высоте в полкилометра, то нас уже узнали, и люди вели себя спокойно. Мое сердце щемило и болело, я посмотрел на тот квартал, где должен был находиться родовой дом Сафьянов, в котором родилась моя мама, и увидел среди обугленных обломков воронку от бомбы — прямое попадание. И все же, даже в этот момент я, впервые оказавшийся в воздухе над родной станицей, не мог не отметить, до чего же они красивые, мои Ахтарики. Это заметил и Тимофей Лобок, уже штурман нашего полка, говоривший, что населенного пункта красивее ему не приходилось видеть. Спокойное море, живописные обрывы, за которыми на гладкой степи раскинулись в идеальном порядке спланированные кварталы белых домов, утопающие в садах. Вокруг станицы уже зеленели и цвели ровные квадраты пшеницы, овса, ячменя кукурузы и подсолнуха. Урожай обещал быть хорошим. Минут пятнадцать мы барражировали над Ахтарями и вернулись на Ейский аэродром.
Не нужно объяснять читателю, в каком настроении я вылез из кабины истребителя на Ейском аэродроме. В нашем полку находился офицер из штаба воздушной армии, прикрепленный для связи — полковник. Я поговорил с ним, объяснив, что мне обязательно надо оказаться в Ахтарях, чтобы хотя бы узнать: кто жив, а кто нет. Подполковник сразу связался со штабом, и на второй день земляк-кубанец Хрюкин, никогда не демонстрировавший нашего землячества, проявил солидарность: прислал свой личный самолет «ПО-2». Летчик, молоденький лейтенант, объяснил мне, что полетим над самой землей, прячась от локаторов и немецких истребителей, которые жестко контролировали весь район, ровный, как ладонь. Мы взлетели ранним утром и минут за двадцать пять, преодолев расстояние в 60 километров, приземлились возле развалин ахтарского вокзала, который был для меня с самого детства таинственным окном в большой мир, образцом величия и красоты, откуда я не раз уезжал, порой для того, чтобы очутиться на другом материке или над городами, названия которых и не думал когда-нибудь услышать.
Я выбрался из кабины «По-2» и зашагал по улицам, приспособленным для движения казачьих сотен. Красивым и грозным зрелищем были эти казачьи сотни. К счастью, в моем родовом доме все было нормально, он уцелел вместе с женой брата Ивана Надеждой и их маленьким сыном Володей. Правда, они убежали на хутор Бородиновка, как и многие ахтарцы. Моя сестра Ольга с двумя девочками — Таисой и Люсей — спаслись, спрятавшись в цистерне для воды, напоминавшей бутылку с узким горлом, по кубанским обычаям врытой в землю. К счастью, прямого попадания в это их убежище не произошло, и они благополучно пересидели огненный смерч, бушующий наверху. Ольга, уже бывшая вдовой, повисла на моей шее и плакала, повторяя, что Сеня погиб — похоронка нашла ее дом. Меня окружили рыдающие ахтарские женщины, почти все уже ставшие вдовами: погиб красивый высокий армянин, муж Клеопатры Ставрун, моей двоюродной сестры, погиб мой дядя Григорий Панов, муж Марии, мужья многих соседских женщин, знакомых мне с детства. Я стоял в полном оцепенении. Было впечатление, что погибли все ахтарцы, да так, собственно, оно и было. Бушующий на фронтах огненный вихрь повернулся ко мне своей тыльной стороной в родных Ахтарях.
Я стоял и с ужасом думал: кто же после войны будет строить, ловить рыбу, воспитывать детей. Дико, но мне было как-то неловко что я стою среди этих вдов, живой и здоровый. По улицам тарахтели тележки с большими колесами, на которых в мирное время возили бочки с водой, груженые домашним скарбом. Люди уходили из Ахтарей, чтобы не попасть под следующую бомбардировку, что, кстати, не исключалось, на хутора Свободный, Бородиновку, Курды. Я прошелся вдоль линии пожарищ и в тяжелом настроении вернулся к дому, где родился. Соседи рассказали мне, что где-то в Ахтарях находится мой брат Иван, а может быть он подался с семьей на хутор Бородиновка. Иван пришел с фронта раненным, его отпустили из госпиталя для домашнего излечения и на побывку. До Бородиновки было всего семь километров — места мне знакомые, как говорят, до боли. Здесь арендовали землю мой дед и отец, здесь я пас коров и знал каждую ложбинку. Я зашагал по полевой дороге среди расцветающей кубанской степи, и будто оживало сердце, уходя мыслями в прошлое. Хутор Бородиновка, по казачьему привольно раскинувшийся в долине, состоял всего из одной улицы, но зато шириной в сто пятьдесят метров и растянувшейся на целых два километра. Мне указали дом, где остановились Пановы, и во дворе я встретил Надежду, которая сразу же с плачем сообщила мне, что Ивана недавно арестовали чекисты, которые питали к нему необъяснимую слабость. Как выяснилось, у Ивана были непорядки с документами.