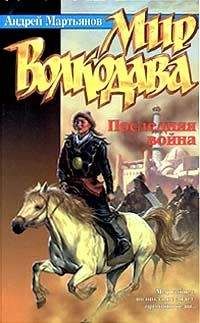— Понятно, конечно, товарищ подполковник — Вы, и я видел Вас!
— Но всегда возвращался. А тогда, группа, совсем незнакомая мне, бежала, и меня загребли вместе с ними. Случайность. Их, как ты видел, убили…
— Видел.
— Так вот, не делай случайных поступков, договорились? — протянул подполковник руку
— А еще… — замешкал, помялся Мирка.
— Не на все я ответил? Спрашивай.
— Скажите, а возле лагеря, в хуторах, кто там жил? Немцы, или поляки?
— В основном, в зоне ближайшей — немцы. Пеплом поля удобряли… А что? — подумав, спросил подполковник, — ты натворил там что-то?
— Да-а…
— Кого-то убил?
Поразительна прямота подполковника!
— Да. Один раз, — беря себя в руки, ответил Мирка.
— Пусть это будет с тобой, на твоей совести. Я почти все про тебя, Мирон, знаю. Но это — верхушка, поверхность, — не больше. А внутри, в содержании, все есть: по совести; против нее; во благо кому-то, и наоборот. Важно, Мирон, чего больше!
Спиной не мог видеть Мирка, как подполковника плавит глазами водитель: ну ехать же, ехать пора!
— Важно, Мирон, чего больше, — еще раз сказал подполковник. — Жизнь, не попутка до промежуточной станции. Впереди еще время — вот и давай, устраняй дисбаланс.
— Спасибо! — Мирка пожал подполковнику руку, и побежал к машине.
ОСТЫНЕТ ПЕПЕЛ И ОЖИВИТ ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ…
С размеренным стуком железных колес, катил по рельсовой нити поезд. Все дальше, с каждым мгновением, дальше от промежуточной станции. До горизонта, насколько охватывал глаз, тянулась железная нить дороги. Непрерывно скользила она и скользила навстречу и не заканчивалась, с приближением к горизонту. Потому, что чем больше пройдено, тем далее, вглубь, отступал горизонт.
Вчера Мирка ставил на жизни точку, а сегодня она начиналась сначала. Как после грозы: отгремела вчера, сразила и сожгла дерево. А сегодня остыл под ним пепел, оживил плодородный слой, и побудил к росту павшее с дерева семя. Тянутся к небу ростки, начинается жизнь.
В центре села, на площади, был колодец с большим, из гладких досок искусно вырезанным журавлем. Мирка вернулся со станции на той же полуторке-ЗИМ, на которой отца увозили на фронт. «Жива, — удивился ей, как старому другу, Мирка, — все также, по-прежнему здесь. Все живо, и, может быть, на этом же грузовике, возвращался отец». От мысли светлело в душе, в предчувствии встречи с родными, с домом. Мирка попил, освежил руки, лицо, колодезной водой. Освеженный, чистый душой и телом, заглянул, как в детстве, в глубокую воду колодца. Увидел себя, на фоне далекого, неба, — так далеко! Можно крикнуть — оттуда вернется эхо…
Но не все было так же, как до войны. От журавля остался лишь обгоревший остов некогда прочной опоры…
— Дядя солдат, а Вы чей? — стайка ребят окружила Мирку.
— А ты чья? — взял он на руки девочку.
— Я Фесенкова Лена.
— А Марину Корневу знаешь, Леночка?
— Нет, я маленькая, не знаю…
— А я Выхованец.
«Все, — понял он, опустив девочку, — полетел телеграф!». Стайка ребят понеслась по селу.
Мирку встречала мама.
Навстречу вышла, в окружении той же, ребяческой суетливой стайки.
— Ну что же ты мама… — с нежным укором, как взрослый, пожурил он, — Я, что же, сам до нашего дома-то не дошел бы?
Два шага на ослабших, видно, от переживаний ногах, — и подхватил ее Мирка. Изумился он, прижимая крепко: «Так вырос я, боже!». Припала мама, к груди, не доставая до плеч. Горячие слезы почувствовал он, сквозь гимнастерку. Дрожали мамины плечи. Ладонями он ощутил, а потом и услышал рыдания мамы:
— Сынок, Мирошечка!...
Стеснительность непонятной вины в ней угадывал Мирка: зачем-то, на первых минутах, хотя бы, — хотела она заслонить неуклюже от сына дом. Как будто к встрече, такой долгожданной, еще не успела прибрать его и украсить. А он, поднимая глаза, увидел — нет дома… Двор, флигелек, и поскотинка: дома нет…
«И папа не встретил, — почуял недоброе Мирка, — и Леночка…». Сердце, неверно, потом все быстрей, заскользило в холодный колодец, вниз!
— Ну, я же вернулся, мама! — подтянув к губам, целовал он горячую, сухонькую ладонь, — А где Леночка, папа? Мам…
Притихла стайка. Не довоенные, детские — взрослые лица, были у этих детей.
Подняла глаза к Мирке мама:
— Одни мы, сынок. Одни-ии!
Кто, какой взрослый, способен такой плачь утешить!
— Ни весточки, сын, от тебя, ни-и… — далекий, холодный вой одинокой волчицы, пробивался в голосе мамы.
— Мамочка… — поник над плечом ее Мирка, не в силах остановить и в своих глазах те же, горькие слезы.
— А вы домой пойдете? — спросила Фесенкова Лена.
Это были послевоенные дети, по малости лет, не знающие многих взрослых в лицо. Но они понимают, то, что и не снилось детям, которые, дай бог, войны не знали.
Дом Выхованцев не был разрушен. Бомбы, снаряды, и даже пули, его миновали. Он был сожжен. Флигелек уцелевший, был теперь домом для Мирки, и мамы.
— Мы отстроим такой же, — сказал маме Мирка, — вернем все, что было лучшее, в память о папе и Леночке, а остальное — сделаем еще лучше. У меня много сил, мы сможем, мама!
Не могла война быть бесследной. Семь человек из ста, вернулись с фронта. Витька, сбежавший из эшелона, остался жив. Был в числе тех советских гвардейцев, которые брали у немцев родное село. В погонах сержанта, входил в село Витька. Миркиной маме он продлил жизнь. Он сильно соврал, но Мирка ему благодарен. Он сказал маме, что жив ее милый сынишка Мирка. Что сообщить не может, но все у него хорошо. Что он с лошадьми, в Германии: служит при них, а таких уважают немцы, и оставляют жить. Он сказал маме: «Главное, в наше время, — он сыт! По-немецки шпрехает...». Умел он соврать…
А за десять дней, до возвращения Мирки, пришла похоронка на Витьку. Погиб, в Карпатах. Попал в засаду. Бандеровцы разорвали его пополам, привязав ноги к верхушкам карпатских пружинистых елей. Он в небо взлетел, и в полете умер!
Сестра Мирки, Леночка, слишком красива была, и привлекательна, чтоб пережить войну… Она даже не поняла, что прекрасна! Над ней надругались немцы. Она умерла от болезни по-женски. В четырнадцать лет!
Мама говорила, что видела папу во сне, и в бреду, после смерти Леночки: он падал с неба. Он, закончив в три месяца школу младшего командного авиасостава, погиб в первом вылете, отбомбив врага. Он был пулеметчиком на ПЕ-2, в соединении легендарного Полбина. Он отбомбил врага, он видел небо!
Но Витька соврал: у сынишки Мирона — все хорошо! И мама жила, ждала сына. А теперь, когда Мирка вернулся, во флигелек, где жили они жили с мамой, приходили соседи, друзья чтобы поздравить с победой и возвращением. Мирка рассказывал, то, что знал, об Алеше, Витьке, Саше. Мамы их приносили, чтоб почитал Мирка, казенные извещения. Алеша — установлено документально — попал в «блок одиннадцать»; казнен. Подпись под извещением: начальник 2 отдела «Смерш», ст. лейтенант В. С. Сташинский. Документально установлено, что оставшийся из четверых, Саша, 18 января 1945 года, этапирован в Заксенгаузен. Попал в оккупационную зону союзников, имеет намерение остаться. Под всеми извещениями подпись Викента. Немало работы проделал он — уж Мирка-то знал, что он много работал!
Мирка взял в руки и прочитал извещение, которое получила мама: Выхованец Мирон Аристович, узник Освенцима, пропал без вести. Место нахождения устанавливается: подпись: начальник 2 отдела «Смерш», ст. лейтенант В. С. Сташинский.
Не поверила мама В. С. Сташинскому. Она поверила Витьке, который соврал, и ждала.
А со временем, когда поутихла боль, спросил Мирка:
— Мам, тебе неизвестно, что с Мариной Кореневой?
— С Мариной?... — мама как будто ждала, когда спросит об этом Мирка, присела, оставляя заботы и посторонние мысли. — Я скажу, сын, скажу, но…
— Ну, увидеть-то мне ее можно?
Мама не поняла.
— Ну, она не замужем?
— Нет… Она на войне была. Ранена. Она еще в сорок четвертом вернулась. Здесь…
— Мари-ин! — стучал Мирка в калитку. — Марина?
Не отвечала. Но Мирка знал, что Марина дома.
— Что ж… — вздохнул он, и прошел во двор. Взойдя на крылечко, постучал в тонкую дверь веранды. — Марина!
Не дождался ответа Мирка, и отворил незапертую дверь. «О-о! — улыбнулся он, — Так и до сердца, не достучавшись, дойду!». Он постучал, безответно, в дверь хаты, позвал Марину, и отворил.
Опешил бы он, если вошел случайно: Марина стояла напротив. В длинном, не деревенского фасона, темном платье; ало горели губы на бледном лице; взволнованный, скрытый огонь таился внутри, в глубинах темных глаз.
— Марин, это я… — Он хотел, как и маму при встрече, обнять ее. Он шагнул к ней, и осторожно коснулся плеч. И явственно ощутил протестующую, спонтанную неподатливость в теле Марины.
— Что ты, Марин? Я же не так… это же… — растерялся он.