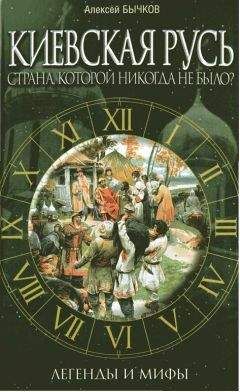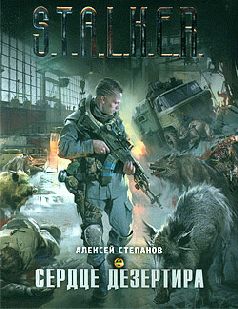Вопрос о выводе войск был самым больным. Он ни у кого не сходил с уст и в палатках солдат, и среди офицеров. Ветераны, участвовавшие в Чехословакских событиях, рассказывали, что вернулись ровно через два месяца. Дескать, дольше десантников за границей держать не имеют права по каким-то международным соглашениям. Поэтому первый срок намечали на двадцатые числа февраля восьмидесятого. Его приурочивали к выборам в Верховный Совет СССР. Однако вывода не состоялось. Не было и выборов. Для них — тех, о ком говорили обтека-емой фразой: «Ограниченный контингент советских войск в Афганистане». Что-то в ней было нелепым, издевательским. В чем «ограниченный»? В умственном развитии? В возможностях простых смертных иметь хоть худую крышу над головой, видеть изредка свои семьи, пользоваться минимумом каких-то удобств?.. Ограниченный в выборе между понятиями — жизнь и cмерть, долг и бесчестье?.. — Третьего дано не было.
Степанов читал раньше: американские солдаты, находящиеся за границей, лишены избирательных прав. Не знал он, что такая же участь постигнет и стотысячную армию в Афганистане. «Для вас будут проведены довыборы», — пообещали «ограниченным». Какие, куда, а главное — когда, — никто ничего так и не узнал. Да их и не было, этих «довыборов»…
Koроче, в феврале вывод войск не состоялся. Все испытали состояние бегущего из последних сил спортсмена, который, собрав всю силу воли, задыхаясь и умирая от нечеловеческиx нагрузок, достит конца дистанции и хотел было остановиться, сбросить напряжение, отдышаться, а ему вдруг сказали: «Ты ошибся. Финиш не здесь. До него eщe десяток километров…»
Словно с ходу налетев на внезапно возникшее препятствие и сильно расшибившись, все чувствовали себя избитыми, измятыми, изжеванными. Руки опускались сами. Хотя каждый по-прежнему двигался, принимал пищу, по ночам пытался уснуть…
Но вот опять забрезжил свет слабой надежды. По лагерю разнеслась весть: «Мужики, выведут пятнадцатого мая. Это уже точно. Еще три месяца продержаться надо…» И все поверили. Иначе и не могло быть. Хотели в это верить. Каждый строил планы на будущее, участники чешских событий рассказывали: «Ровно два месяца прошло. Поднимают нас, и колонной идем к границе. В Белоруссии встречают с цветами. На подходе к Витебску останавливаемся. Километрах в десяти от города. Переночевали, почистились, постирались. Утром идем по Московскому проспекту. Прервали работу на предприятиях, отменили занятия в школах. Дети, женщины — все с флажками, цветами, платочками… Ра-дости… Будто всенародный праздник…»
СЛУШАЛИ солдаты, молодые офицеры рассказы бывалых десантников, и ка-ждый представлял, как его, обожженного афганским солнцем, запыленного, в выгоревшем берете и застиранном комбинезоне, обнимают детские ручонки, незнакомые девушки и женщины целуют, дарят цветы… Мужчины крепко жмут в объятьях. А та, самая родная, самая любимая, о которой столько раз думал в Афганистане, чьи глаза во сне и наяву заглядывали в истерзанную душу, та пытается протиснуться к нему, но не может, и она то смеется, то плачет… Стараясь перекричать радостный шум толпы, гром полковых оркестров, зовет: «Здесь я!.. Я здесь!..» А у него самого что-то подкатывается к горлу, отчего-то щиплет глаза… Он вспоминает тех, кто прилетел раньше, закованный в цинковую броню. Их уже так никогда и никто не встретит… Степанов думает о том, как он посмотрит в глаза жене Алешки Медведя, его сыновьям… Младший, конечно, сейчас ничего не понимает, но пройдет время и он может спросить: «Дядя, а почему ты вернулся, а мой папа нет?»
Мыслью о выводе жили и солдаты. Степанов подшучивал над Мартыновым, Седовым: «Ребята, ну вернемся. Вы же все равно будете в казармах. Какая разница, где сидеть — здесь на аэродроме или в военном городке?..» «Э, нет, — отвечал Коля Мартынов, — там совсем другое дело. Дома и казарма не такая. Я сейчас согласен пробыть целый год в лесу, пусть меня выбросят с парашютом одного в самую чащу. Лишь бы в родную Белоруссию. Срубил бы избушку, ходил бы на охоту. Эх, отдохнул бы!..»
В марте в Кабул пришли ракетчики противовоздушной обороны. Как-то вечером они засиделись в палатке десантников. Разговор шел опять же о возвращении в Союз. Дело было в июне. «Вам хорошо, вас выведут, — завидовали соседи, — а мы два года здесь трубить будем…» Десантники соглашались. Конечно, их-то выведут. Нельзя долго держать за границей ВДВ. Не зря батальоны, воюющие в отрыве, уже переодели для маскировки в общевойсковую форму…
Но получилось наоборот. Утром ракетчикам объявили приказ, они снялись с аэродрома и ушли в Союз. Выведены еще были танковые части. Десантники остались…
Следующий рубеж был назначен на второе августа. Связали его с пятидесятилетием воздушно-десантных войск. И опять потянулись долгие дни ожидания. Женам писали: «Потерпите чуть-чуть. Heмножкo… Еще месяц… Две-три недели»… И те верили. Они тоже среди разноречивых и самых невероятных слухов, ходивших по городу, выуживали главное — когда же все-таки вывод?..
Но прошло второе августа, миновала годовщина афганской «эпопеи», на которую возлагали особые надежды, съезд партии (думали, выведут накануне его открытия, чтобы был повод заявить о новых мирных инициативах) — десантники оставались по-прежнему в Кабуле. Когда же потеплело, надежды поубавилось — опять начались активные боевые действия.
Вопросы о выводе задавали и командующему, и другим воинским на-чальникам, а побывало их в Афганистане немало, — все говорили полунамеками, туманно, неясно. Однако чаще и чаще звучала мысль о том, что десантники еще здесь нужны. Дивизию наградили орденом Ленина, ее полки были отмечены тоже.
А жены все надеялись. Пo-прежнемy мечтали о выводе и десантники. И опять писали родным и близким, обещали, успоспокаивали, хотя знали: вряд ли надежды сбудутся. Но человеку нельзя жить без веры. А ее надо как-то поддерживать. По лагерю ходили одна «утка» за другой. Настроение то внезапно взлетало выше Гиндукуша, то так жe стремительно вдруг катилось в черную пропасть неверия, уныния и безысходной тоски. Потом все забывалось на время, чтобы вскоре с новой силой опалить измученные сердца солдат и офицеров.
Весной восемьдесят первого армия получила приказ на замену. Афганская «эпопея» вступала в новый этап. Убыла в Союз первая партия. А десантникам по-прежнему обещали, что их-де выведут в полном составе: «Вот немножко, еще чуть-чуть — и все…»
«Заключенный в тюрьме знает свой срок. Если будет себя хорошо вести — выйдет раньше. A мы… «Почетная миссия»… «Это ваша Испания»… Да сколько можно?!.» — pоптали между собой.
Но вот пришел приказ на замену и десантникам. В три этапа. Так же, как и в армии. Но те настраивались на два года с самого первого дня, а эти все прошедшее время словно ехали в разбитом трясущемся вагоне: довезет — не довезет, куда и когда — не известно. Узнав, что дивизия остается, поняли: война будет долгой.
С грустной улыбкой вспоминал потом Степанов несбывшиеся надежды. Какие цветы, объятья?!. «Сколько привез? Много ли заработал? Нахапали вы… Теперь этакими фронтовичками прикинетесь? Броситесь в пьянство, в разгул, а службу по боку?.. Что нам ваш Афганистан… Там всем награды давали… по таксе. Да и вообще, чем вы занимались? Это афганская армия воевала, а вы охраняли объекты… Вот сейчас… Газеты пишут…» — подобное придется слышать нередко. А объяснять каждому — рвать сердце на части. Когда откроют Афганистан для прес-сы, о первых совсем забудут. Об их войне не писали, значит, они и не воевали.
Читает газету в Союзе даже тот же офицер, смотрит телевизор — все приглажено, окультурено, нет ни крови, ни вони, одни дружеские объятия да радостные улыбки. А попадет он в Афганистан… Только свистнет над головой пуля, рванет под гусеницей фугас — тут уж впечатление, будто небо на землю падает. Онo начинает казаться с овчинку. В самую пору закричать: «Да это же настоящая война… Братцы, вам повезло! Когда вы служили, такого не было. А что сейчас делается…»
Нет, было. И тогда, и потом. И до нас, и после. Только однажды Степанову понравится оценка афганской войны в прессе. И то, сделана она будет западным журналистом. Тот подчеркнет, что вся история Афганистана — длинная цепь войн племен. К такому выводу пришел и Алексей. Eщe в семьдесят девятом. Разговаривая с советниками, узнал, что воевали и при Дауде, и Захир-шахе, и Тараки, и Амине… «А тогда с кем?» — удивился он. «Между собой», — ответил один из советников. И рассказал, как с афганской частью пришел в горный, аллахом забытый кишлак… Старики по заведенному обычаю решили откупиться. Стали собирать мзду правительственным войскам. К ней должны были присовокупить вроде бы даже девушек…
Позже, в академии, Алексей познакомится с несколькими офицерами-афган-цами. Одного из них будут звать Хаятуллой. «Кто просил вводить советские войска в Афганистан? Если Бабрак, то это не имеет под собой никакой правовой основы. Почему ваши газеты о таких вещах не пишут?» — спросит тот. Трудно будет ответить Степанову. Отделается от каверзного вопроса газетным штампом. «Ведь вы Же убили нашего генерального секретаря Амина», — не отстанет от Алексея Хаятулла. «Я этого не знаю, — ответит тот, — но мне известно, что ваш Амин убрал Тараки… Видишь, у того самого было рыльце в пушку…»