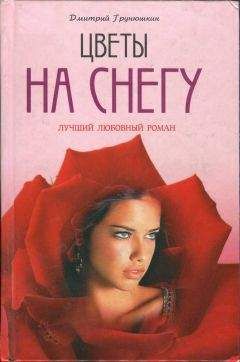Если Древний Рим спасли гуси, то наш доблестный гвардейский полк спасла оружейница Надя Гладких, которая весьма смахивала на колдунью. Она не околачивалась на командном пункте, а ходила по аэродрому и вскоре услышала гул самолетов нашего блудившего полка. Надя прибежала на командный пункт и рукой указала, с какой стороны гудит. Я, в тот день руководитель полетов, дал команду по радио ведущему сделать разворот на 150 градусов влево. Гул моторов приблизился к аэродрому, но потом прошел стороной. На этот раз я подал команду командиру сделать разворот на 160 градусов влево и, к величайшему нашему облегчению, он вывел весь строй прямо на посадочную полосу. Когда гул моторов сотряс наш командный пункт, я радостно закричал: «Вы над нашим летным полем!». Катастрофы не состоялось. Побитые зенитным огнем противника, с почти сухими баками, наши ребята сажали самолеты в темноте. Вот так летали наши парни, не щадя своей жизни, лишь бы добраться до немца или румына. В этом бою особенно отличились молодые летчики В. А. Ананьев и М. Г. Минин.
Но бывали на фронте и веселые деньки, особенно, когда удавалось вырваться в тыл. А мне скоро представилась такая возможность. Седьмого декабря 1943-го года меня вызывали в политотдел дивизии и сообщили, что мне и дважды Герою Советского Союза майору Алелюхину, командиру эскадрильи 9-го гвардейского полка, предстоит поездка к нашим шефам — Ростовскому областному комитету ВКП(б). Для этого нам предстояло погрузиться в самолет «ЛИ-2», ожидавший нас на аэродроме Мелитополя. Мы с Алелюхиным принялись гладить мундиры и чистить ордена. Алелюхин, по такому поводу, даже сменил портянки, что делал крайне редко. 8-го декабря мы были уже в здании Ростовского обкома партии. Нам оказали честь — радушно принял сам первый секретарь обкома Борис Александрович Двинский. Пожилой, матерый партийный зубр, еврей по национальности, более десяти лет работавший личным секретарем Сталина, который, видимо, следуя ленинским заветам, а тот считал, что среди русских умных нет — все они без царя в голове, а есть лишь талантливые, умницы одни евреи, будучи антисемитом, все же не мог обойтись без мозгов древнего народа. Я вручил Двинскому пакет, в котором командование нашей воздушной армии и дивизии сообщало о своих боевых делах. Двинский расхаживал по кабинету в летных, мохнатых унтах, которые ему, видимо, подарили наши отцы-командиры. Все здание обкома партии не отапливалось, и холодина была, хоть волков гоняй. Шевеля бровями, Двинский предложил нам с Алелюхиным выступить на пленуме обкома партии, рассказать шефам о своих делах. Честно говоря, мы перепугались. К партийным органам тогда относились, как верующие к церкви. Мы искренне считали, что там работают необыкновенные люди, вершащие большие дела и имеющие лицензию на постоянную правоту. Словом, рядовым верующим вдруг предложили вести церковную службу. Известно, что даже почти ничего не знающий студент, который спокойно спит перед экзаменом, обычно как-то выкручивается, а зубрящий всю ночь отличник, появляющийся перед экзаменатором с воспаленными глазами, терпит крах. Мы с Алелюхиным пошли по второму пути. Целую ночь писали конспекты речей, рвали их и стремились вспомнить эпизоды боевой работы позабористее. Все бы хорошо, но наши речи никак не лезли в регламент — отведенные нам десять минут. Бедный Леша Алелюхин весь вспотел и, отдуваясь, сообщал, что лучше бы ему лететь в бой, чем сочинять свое выступление. Он просительно заглядывал мне в глаза и говорил: «Может быть ты, комиссар, сам скажешь и хватит?» Я отвечал, что не для того я привез в Ростов живого Дважды Героя Советского Союза, чтобы он пасовал, отсиживаясь в уголке. Летчики народ самолюбивый и всякий намек на то, что они пасуют, действует как звук трубы на боевого коня. Леша согласился податься в ораторы.
Мы оказались в обшарпанном театральном зале, освещаемом керосиновыми лампами и без конца гаснувшим электричеством, минут за пять до начала пленума. Холодина была такой, что мы, как иногда говорят в армии, дрожака ловили — то есть дрожали даже в верхней одежде. Члены пленума, явившиеся в полушубках и валенках, для тепла дружно закурили. На повестке дня было два вопроса: о подготовке области к военной посевной 1944-го года и о восстановлении Ростовской электростанции, дважды взрывавшейся: немцами и нашими. Дела в области были тяжелые, и я понял, почему в ответ на наши просьбы помочь полку материально Двинский замахал руками и сам попросил передать командованию, что Ростову было бы желательно получить хоть несколько десятков трофейных немецких грузовиков. У всех в зале мерзли ноги, и обсуждение проходило под мерный топот присутствующих. Дела были невеселыми, и становилось ясно, что в ближайшие десять лет всей стране предстоит тужиться, восстанавливая наломанное за войну. Во всем были сплошные нехватки. Весь день мы сидели с Алелюхиным в облаках табачного дыма, выслушивая эту невеселую информацию. Замерзшие люди толпами бродили по залу для сугрева, и кучами собирались в фойе, откуда в зал втягивались дополнительные, густые струи махорочного аромата. От этого у нас с Алелюхиным, как и я некурящим, разболелись головы, и всякий ораторский запал окончательно пропал. Тем не менее, когда я забрался на трибуну, то довольно складно стал рассказывать о славном пути и боевых делах нашей дивизии, среди летчиков которой немало асов, известных всей стране: Лавриненков, Алелюхин, Амет-Хан-Султан, Шестаков, Константинов, Мазан и другие. Я с увлечением рассказывал о боевых делах наших ребят и еле-еле вписался в регламент. После меня на трибуну забрался Леша Алелюхин, на ходу сообщив мне, что не знает о чем говорить. Я направил его к лесенке, ведущей на трибуну, и даже слегка подтолкнул.
При появлении на трибуне Дважды Героя Советского Союза в зале вспыхнули аплодисменты. Леша Алелюхин застыл на почетном возвышении и, вытаращив глаза, уставился в зал. Молчание затянулось. В зале стал раздаваться смех, хотя наши люди не без основания считающие выступления трепаниной, этот недостаток прощают охотнее всего. Двинский улыбался, глядя на меня. А скоро на меня жалобно уставился и Алелюхин, которого видимо заклинило. Я показал ему пальцем на боковой карман, где у него должен был лежать конспект выступления. Леша, над которым я должен был шефствовать во время нашего визита в тыл, пошарил в кармане, но конспекта не обнаружил. Смех в зале нарастал. Хорошо, что я, желая облегчить Алексею поиски конспекта, предложил ему снять летную куртку «американку» — на длинной молнии. Леша снял куртку, и его грудь засияла наградами. В зале раздались аплодисменты. Я подошел к Алексею и громким шепотом предложил вспомнить как он на истребителе «Белла Кобра» сбил бомбардировщик противника над Ростовом.
Леша рассказывал об одном воздушном бое за другим. Наш герой использовал уже три регламента, но совершенно не собирался сходить с трибуны, отмахиваясь от всех предложений закруглиться, как от огня мелкокалиберного пулемета. Донские жители, вообще народ воинственный, и москвич Леша им явно понравился. Алелюхин был живой парень, блондин, небольшого роста с удлиненной мордочкой и длинным носом, светло-серыми глазами, смахивающий на обезьяну. Когда он похихивал, открывая редкие вразнобой торчащие изо рта зубы, то порой казалось, что он без царя в голове. А в бою совершенно менялся. Хотя, возможно, быть Героем ему как раз позволяло несерьезное отношение и к жизни, и к смерти. Как здесь не понять Геринга, сокрушавшегося в этом же 1943 году: «Кто мог подумать, что такие бестии окажутся способными на такие подвиги…» Конечно, из москвича Алелюхина, одного из загадочных славян, то вдруг создающих колоссальные империи, то вдруг, как будто ради смеха, рушащих их подобно карточному домику, еще и лепили Героя, но думаю, что половину истребителей и бомбардировщиков противника из тридцати записанных на его счет, он, к тому времени, сбил. Конечно, это бледная цифра, по сравнению с летчиками «Люфтваффе», первый ас которых сбил более четырехсот наших, английских, американских, французских и польских самолетов, но для нас и это неплохо.
Двинский постучал по ручным часам, глядя в мою сторону: пора закругляться. Я, в свою очередь, показывал Алелюхину руками авиационный знак «крест», но он, разгорячившись, не останавливался. Еле стянули Героя с трибуны.
От шефов мы летели с подарками. В наш «ЛИ-2» загрузили тонну ящиков с водкой — бутылки были с белыми сургучными головками. Мы с Алелюхиным, с чувством глубокого удовлетворения, посматривали на наш груз, предвкушая, какая радость будет в наших полках — каждому командиру полка была отдельная посылка, да плюс пятая — командиру дивизии. В ящиках из-под папирос была добрая выпивка и закуска: коньяк, сухая колбаса, ветчина, цитрусовые, папиросы. И все это богатство у нас экспроприировали по приказу Хрюкина. Ушли в прижимистые руки армейского штаба даже именные ящики командованию нашей дивизии. Их забрали, чтобы «разобраться». Разобрались в штабе так, что мы получили жалкие крохи — семь литров водки на полк. Это был грабеж среди белого дня. Зато штабные сосуны водки целый месяц ходили веселыми. К сожалению, самолет сел в Мелитополе, на аэродроме штаба армии. Через несколько месяцев, когда я снова привез немного водки из Ростова — 100 литров, то наши ребята просто растащили половину, к счастью, мы сели на нашем аэродроме. И сколько ни ругали меня представители политотдела армии, добыть спиртное обратно из объемистых ртов и желудков пилотов, было невозможно.