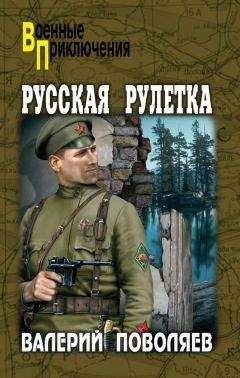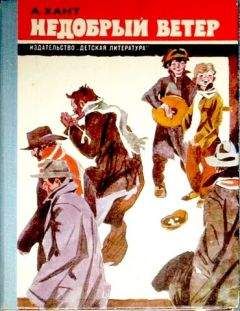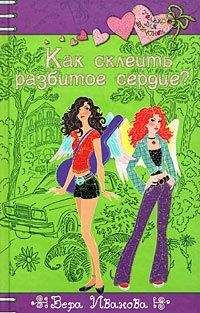В разные передряги попадал Чуриллов, всякое у него случалось, но везло — выходил целым.
Иногда ночью, в море, когда не спалось, он выбирался из тесной душной каюты на палубу и, запрокинув голову, смотрел вверх, в качающееся в такт волнам чёрное небо, на звёзды, перебирал их по одной, словно четки, — но все их перебрать было невозможно, — и гадал, где же конкретно находится его звезда? Думал о том, что как ни повернись, как ни посмотри в своё прошлое, полное неудач, а всё-таки получается, что, несмотря на неудачи, звезда его — счастливая.
В Петрограде той поры было много хороших, впоследствии вошедших в историю русской литературы поэтов, но выдающихся, по-настоящему знаменитых было двое: Блок и Гумилёв. Блоком Чуриллов восхищался, а Гумилёву подражал.
Гумилёв, кстати, здесь, в Кронштадте, и родился. Отец его был корабельным врачом, и судьба у Николая Степановича по всем астрологическим зацепкам должна быть морской, военной, ан нет — он стал поэтом. Чуриллов познакомился с Гумилёвым на одном из заседаний Союза поэтов, куда была приглашена группа талантливых красноармейцев, в ряды защитных фуражек и серых будённовок затесались несколько моряков, в том числе и Чуриллов. Потом Чуриллов дважды был на спектакле в Доме поэтов, где Гумилёв играл главную роль, под грохот литавр, с могучим барабанным боем брал на сцене неприступную крепость Фиуме.
Спектакль публике нравился, актёрам, в основном питерским поэтам, оглушительно хлопали. Гумилёву хлопали больше всех. Он заслуживал этого — был самым ярким из всех, кто витийствовал на сцене.
Дамам Гумилев нравился очень, хотя назвать его привлекательным никак было нельзя: у Гумилёва был удлинённый череп, чуть скошенный в сторону нос, глаза находились на разном уровне, один глаз выше, другой ниже, и хотя это было не слишком заметно, Чуриллов дефект засёк, подумал, что Бог, щедро отпуская какому-то человеку талант, обязательно ограничивает его в чем-то другом, например в привлекательности.
На второе представление «Взятия Фиуме» Чуриллов приезжал вместе с Инной, женой; жена у него была эффектной хрупкой блондинкой, на которую Гумилёв сразу положил глаз, это Чуриллов определил мгновенно, но никак не отреагировал, — и после спектакля пожелал вместе с гостями посидеть за чашкой чая.
Чайных чашек в Доме поэтов не было, были стаканы — тонкие, хрупкие, с бронзовыми ободками, кроме чая на стол был ещё выставлен самогон в литровой бутылке, с которым Гумилёв обращался, как с дорогим вином, и две просоленные до горечи воблы, порезанные на крохотные дольки, к вобле присовокупили горбушку чёрного хлеба, также порезанную на мелкие куски.
Вот и всё угощение.
Честно говоря, небогато, учитывая, что члены Дома поэтов должны были, как разумел Чуриллов, получать паёк, — в Кронштадте с харчами было всё-таки лучше, чем в Питере, многих там неплохо кормило море.
Веселое было то застолье, настолько весёлое, громкое, заводное, что с него нельзя было взять да уйти, не хватало пороху, и Чуриллов с Инной, опоздав на последний дежурный катер, решили заночевать у знакомых в Петрограде. Гумилев, воспылав к Инне, как он сам заявил, «светлыми чувствами, которые бывают присущи только брату, но никак не мужу», проводил их до самого дома, где жили знакомые Чурилловых, потом вскочил в пролётку, которые в последнее время вновь появились в Петрограде, и уехал.
— Очаровательный человек, — произнесла Инна, проводив поэта оценивающим взглядом.
— Если ты ещё раз скажешь так, я буду ревновать, — предупредил жену Чурилловов. — Имей в виду, это серьёзно.
Инна ничего не ответила мужу, огляделась, заметила в конце улицы несколько подозрительных теней.
— Всё-таки у нас в Кронштадте лучше, — проговорила она храбро. Когда рядом находился муж, она не боялась ни бандитов, ни их теней, ни пьяных матросов, ни щипачей-гоп-стопников, умеющих вытащить кошелек с деньгами откуда угодно, даже из чьего-нибудь желудка, ни медвежатников, одним ногтем способных вскрыть любой сейф, умела спокойно оценивать обстановку и при случае даже дать отпор. — У нас тише, сытнее, уютнее, если хочешь… — она поёжилась под прибежавшим с дальнего конца улицы ветерком, взяла мужа под руку. — Пошли! Свалимся на наших друзей, как хан Батый на мирных соседей…
Чуриллов рассмеялся: сравнения, которые иногда употребляла жена, нравились ему — такие не всякий поэт может родить.
Друзья — петроградские врачи, он и она, уже находились в постели, но приходу гостей обрадовались: давно не видели чету Чурилловых…
Милое вечернее сидение, начатое в Доме поэтов, продолжилось, даже мутный самогон нашёлся, как и на Гумилевском столе, и переросло в ночное.
Впрочем, ночей как таковых уже почти не было, густая чёрная темнота начала уступать место колдовской лунной белёсости… Близилась пора белых ночей двадцать первого года…
На улице иногда грохотали автомобильные моторы — город патрулировали чекистские и красноармейские наряды. В густотье каштановых веток самозабвенно пели птицы. Соловьёв, правда, ещё не было, но скоро наступит и их пора. В открытую форточку тянуло сладковатым духом проснувшейся акации: где-то недалеко зацветала ранняя пташка — большая акация, а может быть, пробовала распустить свои бледные душистые цветы и липа — всё могло быть…
Хорошо было молодым людям, не спавшим в ту ночь.
Кронштадт жил своей жизнью. Офицеры побаивались горластых нахрапистых матросов, которых на каждом корабле, именуемом теперь «военно-революционной единицой», было более чем достаточно, и эти горлопаны, ежели что, мигом звали к оружию. Было холодно, кое-кто даже носил с родных кораблей уголёк к себе домой, трёх бывших офицеров, по-нынешнему военморспецов, засекли на этом и на катере увезли в Питер, где располагалась «чрезвычайка». Из Питера военморспецы не вернулись.
Было голодно, ветрено, чувствовал себя Чуриллов отвратительно и, если честно, временами думал о том, что напрасно он вернулся из-за кордона домой. Этого потребовала Инна.
Но, в конце концов, Инна — это не тот самый драгоценный камень, ради которого стоило бросать Париж и тамошнюю жизнь.
Выписать пропуск Гумилёву было, конечно, сложно, но Чуриллов, уже обладая кое-какой властью, сказал чекистам, что Гумилёв, как один из руководителей Союза поэтов и сотрудник «Всемирной литературы», — учреждений, образованных новой властью, а значит, советских — обещает выступить в клубе перед матросами, даже более, побывать в фортах и выступить там, — в общем, он оформил этот пропуск.
Бдительный чекист, выписывающий документы, спросил, кто ещё, кроме Чуриллова, может поручиться, что Гумилёв — не контра, а правильный, наш человек. Чуриллов, не задумываясь, ответил:
— Лариса Рейснер.
Чекист глянул на Чуриллова и, засмеявшись, сказал:
— Ладно, поинтересуемся у товарища Рейснер.
Через пять минут пропуск был готов.
Из Кронштадта Чуриллов позвонил в Домлит — дом литераторов, попросил к телефону Гумилёва, если тот, конечно, находится неподалёку. Гумилев проводил занятие с учениками института живого слова, и дежурный, подробно расспросив, кто звонит, узнал, что из Кронштадта, и подозвал Гумилёва к телефону.
Гумилёв звонку обрадовался.
— Отлично, что пропуск готов. Давно не был в Кронштадте. Всё-таки город моего детства. Очень хочется побывать в пенатах. А как вы мне передадите пропуск? Ведь без него меня в Питере даже к пирсу не подпустят, не говоря уже о катере.
— Сегодня в увольнение на вечер Блока поедет команда — двадцать пять матросов во главе с военморспецом Суглобовым. Я попрошу, чтобы конверт с пропуском он оставил в Домлите.
Через день Гумилёв уже был в Кронштадте. На причале его встретил Чуриллов.
— Как сильно здесь пахнет морем, — восхищённо произнёс Гумилёв, шумно втянул воздух ноздрями, — совсем не так, как в Питере. И на катере — чистота и порядок. Сразу чувствуется — флот блюдёт свои традиции. Ни одного пьяного. И мата нет.
— Мата у нас в Кронштадте предостаточно. И пьяных тоже. А если сделаешь замечание, то в ответ как минимум постараются проткнуть штыком. Вам просто попался нормальный экипаж.
Они два часа бродили по кронштадтским улицам, потом минут двадцать постояли у дома, в котором родился Гумилёв, — неприметного, уже обветшавшего, казённого. Чуриллов предложил зайти в дом, но Гумилёв отказался.
— Нет! Не хочу тревожить память, — решительно произнёс он.
— Но ведь просто так пройтись по Кронштадту — это тоже потревожить память.
— Совершенно разные вещи. Улицы Кронштадта — это память внешняя, оболочечная, а дом, где родился, — память глубинная. Тревожить её можно только в самых крайних случаях. У меня ведь матушка Анна Ивановна происходит из морской семьи — она родная сестра адмирала Львова…