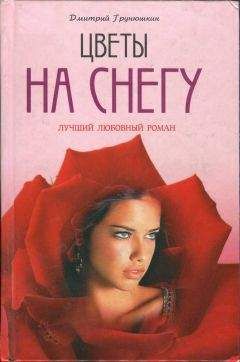К концу июля конфигурация фронта обозначилась, и мы полностью перенесли боевые действия на польскую территорию, где камнем преткновения стал уже упоминавшийся Сандомирский плацдарм. Наши войска оказались на не очень-то плодородных землях Польши, разделенных, как и на Западной Украине, бесконечными изгородями: «это мое, а это твое». Это очень мешало при вынужденных посадках. Земля под крылом самолета смахивала на затейливо набранный и состыкованный паркетный пол. Мы были в краю костелов, куда по воскресным дням толпами шли франтовато принаряженные крестьяне, краю полонезов и мазурок, краю, где женщины были заметно стройнее наших кубанок и ростовчанок, одевались изящнее, смеялись звонче и были как-то по-особенному шаловливы, в краю, где на нас косились все, казалось, даже каменные изваяния Христа с придорожных распятий. Словом, мы были в Польше, еще не так давно великом государстве, проигравшем Москве борьбу за лидерство в славянском мире и хорошо помнившем царский гнет. Мы были в краю, где в отношении русских не строили иллюзий, особенно когда увидели наших казачков, полякам особенно памятных, манеры которых мало изменились за те десятилетия, когда донские и кубанские кони не топтали польскую землю. Поляки берегли свое настоящее, думали о будущем без нашего влияния и хорошо помнили о прошлом. Споры своей государственности они берегли в семье и костёле, пережидая очередное нашествие русских, которым отнюдь не собирались потакать в их стремлении установить в Польше коммунистический режим. Словом, мы были в Польше, где все так непросто. Мы были в стране одного из наиболее цивилизованных славянских народов, соседствующих с немцами — «французов севера», впрочем, здесь сразу можно было узнать славян, посмотрев, как они пьют водку. В стране гоноровых подтянутых офицеров-кавалеристов. Наша задача была простой: прорубить через Польшу — страну полную тонкого очарования — путь в логово «фашистского зверя». И мы взялись рубить.
В конце июля мы второй раз обосновались на аэродроме в Мельце и, наконец, могли хорошо осмотреться. Замкнулся еще один круг, и я увидел те самые казармы, о которых пять лет назад в Черновцах рассказывала нам, летчикам, еврейка-библиотекарша. Именно здесь немцы обучали войска для русского похода. И вот теперь я стоял возле этого огромного военного городка, где широко раскинулись бараки и казармы. Я подумал о роковом ходе судеб и обстоятельств, вспомнил ту девушку-еврейку, которая вряд ли сейчас была жива. Недалеко от Мельца, типичного польского городка, с остроконечными крышами, будто отражавшими польский характер, протекала Висла, а совсем рядом — речонка, в нее впадавшая. За этой речонкой, в трех-пяти километрах, зацепились немцы, которые дали нам возможность приземлиться и принялись обстреливать наш аэродром из орудий. И опять не было приказа покидать этот аэродром. Мы очень нужны были именно в этом месте для прикрытия переправ через Вислу, питающих Сандомирский плацдарм. В этом районе линии фронта было всего три аэродрома, и все они эксплуатировались в полную силу — свободного не было. Пришлось нам здесь оставаться, и летать на Сандомирский плацдарм с простреливаемого Мелецкого аэродрома. Мы опять несли бессмысленные потери уже на земле. Правда, командующий фронтом Конев, когда ему доложили, в каких условиях базируются летчики, заявил, что обеспечит нам покой. И действительно, в первых числах августа мимо нашего аэродрома прошли войска, концентрируемые для наступления местного значения: «Катюши», артиллерия и пехотный полк. Через несколько часов за рекой зарокотало и заревело. Потом затянула свое бесконечное: «А-а-а-а-а» пехота, и немцев отбросили на несколько километров, до синеющих опушек дальнего леса. Несколько дней мы летали без всяких помех, но потом случилось следующее.
Вечером я проводил партийное собрание по поводу обстановки на фронте и наших задач. Мы сидели под крылом подбитого транспортника, который оставили немцы на аэродроме. Я прекрасно понимаю нынешнее отношение к проведению партийных собраний, но случалось, что на фронте это было единственной возможностью для людей поговорить по душам. Я всегда стремился, чтобы собрания проходили именно так, и никого не одергивал, никому не указывал. Разговор был в разгаре, когда над нашими головами в сторону заката к себе на аэродром, который находился южнее нашего, прошли четыре штурмовика «ИЛ-2». Только они ушли, как в той стороне рявкнули четыре взрыва. Мы подумали, что штурмовики наугад сбросили бомбы, оставшиеся после выполнения боевого задания, и неодобрительно покачали головами. Но потом сразу четырежды рявкнуло в другом месте, потом снова. И мы поняли, что это немцы подтянули артиллерию, которая в состоянии достать наш аэродром, и возобновили обстрел. Мы прервали партийное собрание и укрылись в щелях. Наверху остались лишь самолеты, охраняемые дежурным по полку с несколькими автоматчиками. Этим ребятам было не позавидовать. Лучше пережить интенсивный обстрел в укрытии, чем постоянно думать: куда же упадет очередной снаряд?
Всю ночь на нашем аэродроме рвались снаряды, которые по четыре выпускала немецкая батарея. Под утро последовал получасовой перерыв. Потом снова возобновился обстрел, и один тяжелый снаряд попал точно в самолет командира полка подполковника Смолякова, стоявший с заправленными баками возле командного пункта. Самолет вспыхнул огненным факелом и сгорел дотла. Мы воспользовались следующим перерывом для того, чтобы по быстрому вскочить в кабины и, заведя моторы, рассредоточить самолеты по рулежным дорожкам — где кто нашел удобное место. Немцы продолжали обстреливать нас почти без перерыва. Единственным лекарством был вылет по нашей просьбе уже известного нашему читателю Саввы Морозова из 31 гвардейского истребительного полка нашей дивизии, который пикировал прямо на немецкие батареи и обстреливал их из пушек, не давая стрелять. Нам пришлось оборудовать себе место для отдыха в лесу и затащить туда же самолеты, наблюдая из-за деревьев, как немцы, не жалея снарядов разных калибров, ковыряют поле аэродрома. Среди разрывов ходили солдаты аэродромной роты нашего батальона обслуживания с лопатами и граблями в руках, засыпая и заравнивая воронки. К счастью, никто из них не погиб. Обстрел продолжался двое суток. Самолеты соседних полков, выручая нас, сделали несколько штурмовых налетов на немецкие артиллерийские позиции, и заставили немцев покинуть их. Через несколько дней они снова стали обстреливать наш аэродром, но мы не обращали внимания на это, как на нудный мелкий осенний дождь, продолжая летать для прикрытия переправ в районе Сандомирского плацдарма.
Именно в это время, сзади, как мальчишка-хулиган из рогатки камнем, мне выстрелили в спину выговором, за «недостаточную политико-воспитательную работу среди летного состава полка, в результате чего командир второй эскадрильи товарищ Константинов при выполнении боевого задания заблудился и не возвратился на свой аэродром». Это была подлая работа большой гниды и известного труса, который постоянно пытался подколками и укусами поддерживать свой авторитет среди летчиков, начальника политотдела нашей дивизии полковника Леши Дороненкова. Леша обладал интересной особенностью: он считал себя вправе всем пакостить, всем читать мораль, над всеми язвить и насмехаться, причем, не летая в бой и не утомляясь, а значит сил у него на это оставалось достаточно. Но стоило его умыть в ответ, как он сразу обижался и кричал о подрыве авторитета начальника политотдела дивизии и чуть ли не самой партии большевиков.
Чтобы понять, за что я получил выговор, нужно рассказать о двух историях: крымской и западноукраинской, но не потому, что я придаю значение этому взысканию — как обычно, последовал старому совету: положи выговор в тумбочку и забудь. Просто истории сами по себе интересны. Одна из них случилась в середине июля: вылетев на барражирование над своими войсками в район Брод, наш признанный ас и лучший командир эскадрильи полка Толя Константинов заблудился. Черт может попутать любого, тем более на малознакомой местности, тем более на Западной Украине, где ландшафт очень сложный: многие холмы, овраги, горки и речки будто повторяются один к одному. Именно это и сбило с толку Толю. Он пошел блудить всерьез. Девять наших истребителей, летящих неизвестно куда, побывали и над немецкой территорией, где их обстреляли, и над линией фронта. Но потом Константинов, действуя согласно наставлениям, взял курс под 90° на восток, и эскадрилья летела, пока не выработала горючее, после чего все девять самолетов сели на брюхо на поле, перечерченном крестьянскими изгородями. К счастью, все самолеты уцелели. Погнутыми оказались только воздушные винты и побиты некоторые водяные радиаторы, наличие которых очень снижало уровень шума мотора, что в свою очередь позволяло летчику гораздо меньше утомляться в полете. Меня, например, больше всего утомляли шум и перепад давления при изменении высоты. Словом, ничего особенного с эскадрильей Константинова не случилось. Самолеты скоро доставили к нам на аэродром, заменили винты, слегка подремонтировали, и они стали в строй. Все уже стали забывать об этом случае, в котором можно было обвинить кого угодно: командира полка, штурмана полка, штурмана эскадрильи, самого Константинова, заместителя командира полка по летной части, но только не замполита. И тут Леша Дороненков втихую пустил «шептуна» — без всякого звука испортил воздух, вынеся мне выговор с такой идиотской формулировкой. Но я то знал, откуда ноги растут — из неба над Крымом.