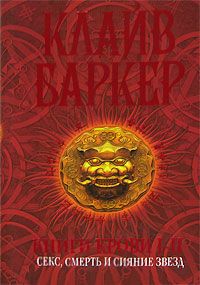— А что, если вы во мне ошибаетесь? Если я донесу на вас?
— Я подумал и об этом, — тихо отозвался Карел. — Вы недолго проживете, если поступите так.
Канонада заметно стихла, в перерывах между выстрелами слышался глухой шум авиамоторов. Потом грохнул взрыв, за ним другой, третий.
— Уже бомбят, — сказал Карел и встал. Бент остался сидеть, усиленно обдумывая что-то.
— По-моему, это не бомбежка, — сказал он, — Скорее похоже на взрыв. — И, не поднимая головы, спросил: — Уж если у нас откровенный разговор и я не собираюсь на вас доносить… можете вы мне сказать, что будет после войны? Какая участь ждет Германию, которая, по вашему мнению, потерпит поражение? Что станется с армией и людьми? Как вы думаете?
Карел пожал плечами.
— Это я себе плохо представляю. Во всяком случае, надо создать такой порядок, чтобы не было третьей мировой войны. Надо покарать виновников войны, а ведь это не только министры и генералы. Это и военные промышленники, и деятели гитлеровской партии, и другие убийцы.
Бент медленно встал.
— Я не фанатик и способен войти в ваше положение. Но вы, конечно, понимаете, что я не могу желать, чтобы война кончилась так, как хочется вам. Уже потому, что я немец.
— Прежде всего вы — человек, — прервал его Карел.
— Немец у нас значило и значит больше, чем просто человек, — усмехнулся Бент. — Но и, как личность, я должен желать успеха Гитлеру. Я был свидетелем рождения его партии, я помогал создавать ее, у меня есть имущество, есть свои радости, которые для меня все, они нужны мне, как жизнь. Поймите, уже ради всего этого я не могу не желать, чтобы мы устояли. Можете вы это понять?
Карел слегка усмехнулся:
— Стало быть, вы, как человек, совсем не возражаете, чтобы миллионы людей были истреблены, лишь бы вам жилось спокойно и удобно. Видно, я в вас ошибся.
Бент смутился, но лишь на минуту.
— Ход событий не зависит от нас с вами, — сказал он.
— И слава богу! Те, кто будет решать судьбу Германии, не станут исходить из своих личных интересов и радостей.
— Ответьте мне еще на один вопрос.
Карел улыбнулся.
— Пожалуйста. Вы и так все обо мне знаете.
— Вы… коммунист?
— А вы думаете — да?
— Наверняка!
— Почему?
— Ваши взгляды, ваше отношение, ваше…
— Вы, немцы, считаете каждого, кто против вас, коммунистом. Я не коммунист. Такие взгляды, как у меня, вы встретите у всех порядочных людей на свете, особенно у тех, у кого вы отняли свободу и отнимаете даже жизнь.
Бент в растерянности стоял посреди камеры, включая и выключая фонарик.
— Я вот думаю, отчего это мне пришло в голову зайти к вам? Ведь я не мог ожидать, что услышу от вас что-нибудь другое. Именно такими мы и считаем чехов: мы знаем, что вы нас ненавидите, стараетесь саботировать, мешать нам во всем, вредить… Перевоспитать вас невозможно.
— А потому гораздо проще — истребить, — улыбнулся Карел. — Не так ли? Ausrotten, ausradieren, liquidieren, kaputt machen, nicht wahr?[42]
— Никогда в жизни я не был склонен к насилию, это не в моем характере.
— А что станет с вашим характером, когда вы почувствуете, что конец войны и Германии близок?
Бент не ответил. Широко раскрытыми глазами он смотрел перед собой, словно кроме него в камере никого не было. Потом опомнился, вздрогнул и виновато улыбнулся.
— Кто знает? — медленно сказал он. — Кто может знать? Я сам этого не знаю.
Он подошел к окну и, потушив фонарик, отодвинул бумажную светомаскировку. За окном полыхало багровое небо.
— Где-то пожар, — заметил он. — И большой.
— Карлуша! — послышался голос Кованды. — Идет тот, пузатый.
— Сюда идет Гиль, — передал Карел Бенту, и тот быстро отпер дверь.
— Schlafen Sie gut[43], — сказал он, обращаясь к Карелу, и взгляд его стал тверже и строже. — Поразмыслите о том, каков будет мир, если Германия выиграет войну.
Когда раздались взрывы, Гонзик стоял у окна в квартире доктора. Доктор сидел в своем любимом кресле и курил. Светился только огонек его сигареты.
— Началось, — сказал Гонзик и ощупью подошел к свободному креслу. — В убежище не пойдем?
— Это были не бомбы, — отозвался доктор, встал и затемнил окна. — Надо быть наготове, — продолжал он, зажег свет и надел белый халат.
— Ты ведь не дежуришь сегодня.
— Все равно каждую минуту я могу понадобиться.
— Ты же только что сказал, что это не бомбы.
Доктор пожал плечами и не ответил. В комнату донесся шум подъехавших машин.
— Уже приехали, — сказал доктор и нервным движением загасил в пепельнице недокуренную сигарету.
Гонзик недоуменно глядел на него.
— Ты от меня что-то скрываешь, — укоризненно сказал он. — Я еще не видел тебя таким взволнованным.
Доктор повернул голову к двери и напряженно прислушался. В прихожей щелкнул замок. Доктор даже не успел подбежать к двери, как в комнату вошел Крапке в потертом синем пальто и старой кепке с поломанным козырьком, на шее у него болтался шарф, пальто на груди было порвано и сожжено, щеки Крапке измазаны чем-то черным, над бровью виднелась кровоточащая рана.
Доктор подбежал к нему и схватил за обе руки.
— Ну что? — нетерпеливо спросил он, глаза его заблестели. — Говори же.
Крапке закряхтел от боли.
— Не жми мне руки! — простонал он. — Взгляни-ка!
Он протянул к нему руки, повернув их ладонями кверху. Обожженные ладони были черны, кожа на них потрескалась так, что виднелось живое мясо; кончики пальцев были изодраны до крови, ногти поломаны.
Доктор поспешно вышел и вернулся с бинтами, пластырем и пузырьками.
— А ты рассказывай, — прикрикнул он на Крапке, раскладывая медикаменты на гладкой поверхности рояля. — Рассказывай же, прошу тебя!
Гонзик молча смотрел на обоих, потом подошел к сидящему Крапке.
— Скажите же мне, что случилось, — спросил он нетвердым от волнения голосом. — Или мне этого нельзя знать и лучше уйти?
Наклеивая пластырь на лоб Крапке, доктор сказал:
— Оставайся, все узнаешь. Или не видишь, что и я сгораю от нетерпения. Скажи, Ганс, — обратился он к Крапке. — Удачно?
— Удачно, — ответил тот и, подставив доктору правую руку, стиснул зубы от боли. — Заряды взорвались точно один за другим, как рассчитано. У печей были только сторожа, двенадцать человек — на весь завод, — голландцы, французы и наши. Я видел все из своего окна, я ведь живу там, напротив; взрывом у меня выбило стекла. Эта рана над глазом — от стекла. Потом я побежал на завод. Веркшуцовцы оставили ворота без надзора, и через минуту на завод сбежалась вся улица. Я помогал на аварийных работах… Пятеро раненых, — тихо добавил Крапке, — …и двое мертвых, голландец и француз.
Доктор быстро делал, перевязку, волосы ушли ему на лоб, губы были плотно сжаты.. Ловкими, пальцами он промывал ссадины, резал марлю и пластырь, накладывал бинты.
— Жертв не должно было быть, — строго сказал он. — Тем более иностранцев. Тотально мобилизованные?
Крапке молча кивнул и опустил глаза.
— Я не виноват, — тихо сказал он. — О господи, для меня это больнее всего… Но невозможно было целиком исключить жертвы. Сторожа поочередно обходили печи. Когда произошел взрыв, они были у соседней домны… Как раз через них я разузнавал порядки на заводе. Только потому нам и удалось так удачно провести операцию… Но не мог же я предупредить их! — в отчаянье воскликнул Крапке и поглядел на Гонзика и доктора, словно ожидая приговора.
Доктор сосредоточенно делал перевязку, а Гонзик стоял у рояля, сложив руки на груди, и глядел в пространство, словно решаясь на что-то.
Крапке с минуту молча ждал и, не дождавшись ответа, вспылил:
— А по-вашему, их можно было предупредить? Вправе был я сделать это?
Доктор поднял голову. На глазах у Крапке застыли слезы.
— Нет, Ганс, — твердо сказал доктор, — никого нельзя было предупреждать. Такие вещи нельзя сообщать даже людям, которых мы считаем вполне надежными.
Крапке сидел, уставясь в пол, и все еще не решался поднять глаз. Потом, почувствовав, что уже вполне справился со слезами, он обратился к Гонзику.
— А ты не сердишься на меня, Ганс, — робко спросил он. — Не сердишься за то, что те двое… иностранцев…
Гонзик вздрогнул и быстро подошел к нему.
— Всякая борьба требует жертв, — сказал он. — О боже, доменная печь… Мне и не снилось, что я стану свидетелем такого большого дела.
Крапке, уже не таясь, вытер глаза перевязанной рукой и крепко выругался.
— Черт дери, — усмехнулся он, — я чуть не расхныкался, как баба.
Он встал с кресла и тыльной стороной руки сдвинул на лоб кепку, которую ему надел доктор.
— Ну, я пойду, — сказал он. — Пойдешь поглядеть на других раненых, доктор?