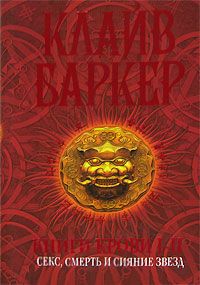— Разумеется. Ты тоже, Ганс?
Гонзик покачал головой.
— Если ты не возражаешь, я лучше останусь.
Выходя вместе с доктором, Крапке вдруг вспомнил о чем-то и вернулся.
— Спасибо тебе за пистолеты, Ганс, — сказал он и показал в улыбке крепкие белые зубы. — Они нам очень пригодились. Я еще не все рассказал: мертвых было, собственно, трое; третий умер через пять минут после взрыва, это был начальник веркшуцовцев — великая сволочь. Так что спасибо тебе, — добавил он и перевязанной рукой прикоснулся к козырьку кепки.
Багаж Пепика славился в роте своей тяжестью и большими размерами. При каждом переезде стоило немалых хлопот уложить и запаковать все его вещи так, чтобы они не рассыпались в пути. А уж нести их Пепику было и вовсе не под силу.
— Удивляюсь я тебе, — ворчал Кованда, взмокший под тяжестью его чемодана (он всякий раз помогал Пепику), — на кой черт ты собираешь всякое барахло? Одежи у тебя с гулькин нос, а чемодан набит одними бумагами. Да еще рюкзак, да корзинка!
Багаж Пепика был наполнен газетами — чешскими, немецкими, французскими, русскими, старыми и новыми, справочниками и картами. Он запасся русским, голландским, польским и французским словарями и автомобильными, туристскими и климатическими картами всех стран мира. Поиски таких справочников были коньком Пепика. Во всех книжных и букинистических магазинах Саарбрюккена знали его тонкую мальчишескую фигуру, повсюду он разыскивал специальную литературу и редкие издания, которые по своей литературной или исторической ценности часто были много выше того, чем обычно интересуются клиенты таких магазинов. Кроме книг, Пепик старательно собирал передовицы и политические статьи из «Фелькишер беобахтер», подобрал в хронологическом порядке сводки германского командования, коллекционировал фотоснимки на военные темы, стихи, театральные и литературные рецензии.
— Когда-нибудь, — говорил он с увлечением, — надо будет составить хронику этой войны и показать лживость немецкой пропаганды. Это будет легко, если иметь материал, который сейчас сам просится в руки. Прошу вас, ребята, когда вам попадается что-нибудь интересное, несите это мне.
В быту Пепик был слаб, почти беспомощен и целиком зависел от помощи многочисленных друзей. Он ни пуговицы не умел пришить, ни выстирать рубашки, ни побриться. Пепик откровенно признавался, что дома мать чистила ему ботинки, и совсем не смутился, когда товарищи захохотали, услышав об этом. У него, мол, никогда не оставалось времени на такие пустяки, это же чисто женское дело. Любознателен он был чрезвычайно, но больше всего любил рыться в книгах, вечно читал и изучал что-нибудь — этакий всезнайка, с которым можно поговорить на любую тему; все он мог разъяснить, о чем ни спросите: о династии Птоломеев или о теории относительности, о клеточном размножении или о радиоактивном излучении. Обо всем он кое-что знал, но глубоких познаний у него никогда не было: он просто не успевал приобрести их, потому что вскоре его увлекала другая тема, другой предмет. Он мечтал стать издателем, юристом, военным, дипломатом; загоревшись каким-нибудь делом, он быстро охладевал к своим прежним увлечениям. Для будничной работы это был потерянный человек.
Пепик охотно делился своей порцией сигарет с Фрицеком, который его обстирывал; для повара Йозки, чинившего ему белье, он писал по-немецки любовные письма; он щедро оделял содержимым своих посылок всех товарищей, которые чистили ему обувь, прибирали постель или ходили за едой. Без дружеской помощи Пепик, конечно, пропал бы ни за грош. Но при этом он до последнего вздоха клял бы нацизм и поучал грядущие поколения о том, как и что надо сделать, чего не страшиться и чего остерегаться, дабы достичь главной цели — навеки сохранить демократию, которая, по мнению Пепика, имела свою постоянную резиденцию во Франции, Англии и Америке.
— Самое важное в нашу эпоху, которую люди так испортили, это пережить ее, — говаривал Пепик. — Все остальное второстепенно. Всякий режим, который кончается на «изм» обречен, — ораторствовал он, насмешливо поглядывая на Гонзика. — То, что вечно, кончается на «ия».
Пепик вел дневник, занося свои впечатления в толстую тетрадь, купленную в Сааргемюнде. В виде вступления он написал:
Я не нахожу душевного спокойствия в дни событий, которые делают спокойствие бессмысленным и жутким. Я мечусь из стороны в сторону, ищу, допытываюсь, ошибаюсь и не узнаю самого себя. Я постигаю отраду одиночества, когда я окружен людьми и увлечен ими, значение дружбы, когда я покинут всеми, ценность истинной и прочной любви, когда размышляю о зыбкости чувств и тщете всего, прелесть и очарование окружающего мира и безмерную ценность жизни, когда теряю надежду и веру, видя вокруг себя лишь торжество смерти и гибель всех ценностей, которые считал вечными.
Каков же я сам?
Каково все мое поколение, в котором грубый жизненный опыт преждевременно убил юность души?
Каковы все мы, люди, так легко утрачивающие человечность, мы флюгера на ветру, мы, семена, которые взойдут еще несчетное число раз, и всегда иными колосьями?
Кто ответит мне? Кто разрубит гордиев узел, которым тесно связаны правда и страх?
Весной 1943 года роту послали строить многоэтажные бомбоубежища в разных местах города. Эти убежища представляли собой мощные железобетонные коробки, неказистые, громадные. Их строили на обширных открытых участках, в садах или на площадях; вокруг каждого бомбоубежища возникала целая строительная площадка с бараками, подъемными кранами, бетономешалками, рельсами, тачками, складами. В этом человеческом муравейнике нетрудно было потеряться и ускользнуть от надзора солдат. Именно так и поступал Пепик. Но только благодаря старому Кованде его бездельничанье оставалось незамеченным: Кованда изобретал множество тактических приемов, с помощью которых можно было удрать с работы, не привлекая внимания стражи. Другие товарищи тоже симпатизировали Пепику и, в случае нужды, помогали ему в тяжелой работе.
Свободное время Пепик проводил преимущественно в одиночестве, избегая шумной компании. Он бродил по городским паркам, сидел над дневником или, уставясь взглядом в одну точку, размышлял о себе и обо всем мире, исполненном хаоса и тревоги.
В такие минуты Пепик испытывал прямо-таки мучительную жажду нежности и любви, которая хотя бы ненадолго заполнила его душу. В таком настроении он в один мартовский вечер побрел к реке, на берегу которой стояло низкое деревянное строение — местный публичный дом. Уже не раз Пепик направлялся в ту сторону, но всякий раз стыд останавливал его. На этот раз он решился…
Торопливо возвращаясь теплой ночью в казарму, чтобы не просрочить часа, красными чернилами обозначенного на картонном пропуске, Пепик чувствовал себя так, словно только что очнулся от беспамятства. Смутно вспоминались лишь разрозненные подробности пережитой унизительной сцены, все время мерещилась комнатка, наполненная жалкими сувенирами и картинками на стенах, зеркальцами и засохшими букетиками, синее покрывало на широком диване, часы с кукушкой и пустой диск патефона. Не было руки, которая остановила бы этот быстро вращающийся диск. Не было руки, которая положила бы на него пластинку и вставила бы новую иглу в мембрану. Музыка в этот момент свела бы Пепика с ума, но и тишина, которую нарушало лишь тиканье часов с кукушкой, тоже раздражала его. Надевая пальто, Пепик не мог отвести взгляда от круглой подвязки, упавшей на синий потертый коврик, по которому, наверное, прошло больше мужчин, чем проходит за день в ворота их казармы. Пепик торопливо шагал по улице и не мог изгнать из памяти легкий мурлыкающий смех, которым его проводила девушка. Этот смех преследовал его всю дорогу, он словно спешил за ним босыми, голыми ножками, на одной из которых зацепилась за пальцы тонкая паутинка чулка…
В казарме было темно и тихо. С пылающим от волнения лицом Пепик прокрался по безлюдным коридорам в умывалку, сбросил одежду и стал под душ. От ледяной воды у него захватило дух, накопившаяся в душе горечь вызвала слезы на глазах. Юноша тер все тело, словно стараясь смыть с него грязь этого нового жизненного опыта, и дрожал от холода и подавляемых рыданий.
В умывалку вбежал Мирек. Он схватил Пепика за плечи, вытащил его из-под душа, растер полотенцем, одел и, пристально глядя в его заплаканное лицо, вытер ему слезы.
— Ты совсем спятил, что ли? Есть у тебя голова на плечах? В полночь залез под ледяной душ и торчит под ним столько времени! У тебя что, железное здоровье, а? С чего это ты вздумал?
Пепик сидел на скамейке, чувствуя, как тепло возвращается в его тело.
— Мне все равно, — сказал он, стыдясь взглянуть на умывающегося Мирека. — Мне кажется, я такой грязный… что не отмоюсь до самой смерти. Я был в публичном доме… — тихо сказал он, весь дрожа и с трудом сдерживая слезы. — Я там был сегодня, Мирек!