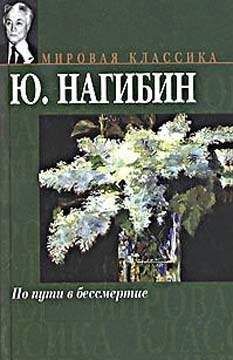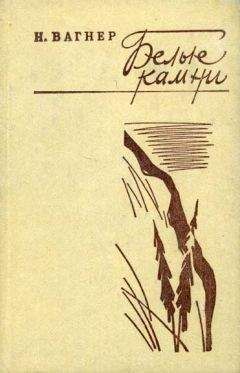Зато Гену Яньковского не узнать. За месяц жизни в гарнизоне повзрослел, раздался в плечах. От наивности и всеверия и следа не осталось. Нахватался грубоватых солдатских шуточек и вворачивает их в разговор на каждом шагу. Каска лихо сидит на его голове, подбородок упрямо выдвинут вперед, обветренные до красноты скулы шелушатся. Никогда не думал, что он так быстро войдет в армейскую жизнь. Вот тебе и кузнечик! Увидели бы его сейчас в школе!
Ребята не так просто пришли к нам. Что-то они задумали. Есть у них какое-то важное дело к нам. Какое? Чего они мнутся?
Наконец Витя Денисов отводит меня за куст.
— Ларька, — говорит он, опустив глаза. — Я хотел поговорить с тобой еще позавчера, там, на горе… Да как-то не вышло… В общем, если со мной что-нибудь случится, напиши, пожалуйста, матери… А после войны зайди к ней. Она всегда тебя уважала…
Я обалдело смотрю на Голубчика. Неужели он это всерьез? Неужели наш комсорг струсил?
— Ну, чего смотришь? Чего испугался? Война есть война, — говорит он.
Я понимаю, что он прав, но все внутри сопротивляется этому. Вспоминаю слова Цыбенко: «На войне как себя чувствуешь, так и буде. Если радостно и на все тебе наплевать — значит, победа. А ежели начнешь копаться в себе, каждого выстрела боишься, каждой пуле кланяешься — дрянь дело…» Но ведь сколько я знаю Витю, он никогда не был мнительным, в школе всегда смеялся над разными глупыми приметами, которым мы верили перед экзаменами, над всеми этими пятаками, которые нужно держать в кулаке, когда вытаскиваешь билет, над узелками на носовых платках или над тем, что отвечать нужно идти только голодным. А тут…
— Так, значит, напишешь? — говорит Витя, Он расстегивает карман гимнастерки и вынимает из него сложенный вчетверо листок бумаги. — И эту записку перешлешь. Добро?
Я киваю и прячу записку в свой карман, В конце концов, это не предчувствие и не суеверие. Это предусмотрительность. Если бы вчера пулеметчик в немецком танке взял прицел чуточку ниже или снаряды пролетели на пять метров дальше… Где-то у шеи зарождается мелкая дрожь и холодком бежит вниз по лопаткам. Я не в силах ее подавить.
— Витя, а если со мной что-нибудь…
— Не беспокойся, сделаю то же самое. Но лучше бы ты написал что-нибудь.
— Нет, не хочу. Лучше без всяких записок.
Мы пожимаем друг другу руки.
Из-за гор поднимается солнце. Косы тумана, вытянувшиеся по всей долине, становятся прозрачными и быстро тают под его лучами. Ребята уходят к своим ячейкам.
Вася, подперев голову рукой, задумчиво сидит у пулемета.
После завтрака Цыбенко собрал нас у своей ячейки. Оглядел всех, медленно переводя глаза с одного на другого. Положил руки на немецкий «шмайссер», висевший у него на груди.
— Е среди вас комсомольцы?
— Все комсомольцы, — отозвался кто-то.
— Добре, — сказал он. — Так вот, хлопцы, чует мое сердце, що сегодня буде настоящий бой. Назад подаваться нельзя, иначе позор живым и мэртвым. Помните, що я усе время з вами, з вами хотел бы и войну кончать. От так. Занять оборону!..
«Хейнкели» налетели около восьми утра. Шесть машин высоко прошли над долиной в сторону Эльхотова, потом разом, как на учениях, сделали поворот назад и, пикируя на заросли вдоль шоссе, открыли огонь из всех стволов.
В дыме и грохоте взлетели в воздух обломки асфальта и шпал, превратились в груду мусора остатки путевой будки, струями брызнул щебень с железнодорожной насыпи, повис на проводах надломленный телеграфный столб. В ответ залпами заградительного огня загремели горы.
Штурмовики сделали два захода, и следом за ними сразу же появились танки. Колонна их, выкатившаяся в километре от нас на шоссе, быстро развернулась в боевую линию, часть машин, как и вчера, перевалили через насыпь и обрушились на правый фланг, остальные направились в нашу сторону.
…Восемь… девять… одиннадцать…
Досчитав до шестнадцати, я сбился. Да и не было смысла считать, потому что на шоссе со стороны Змейской выкатывались все новые.
— Ну, Ларька… — пробормотал Вася, положив руку мне на плечо. Мы лежали в ячейке, тесно прижавшись друг к другу, и смотрели на шоссе через амбразуру бруствера. Сейчас не было для меня человека ближе, чем он, мой дорогой школьный товарищ. Девять лет мы учились вместе, в классе сидели через две парты друг от друга в одном ряду, и вот теперь нам приходится лежать за одним пулеметом, Странная штука — судьба… А ведь я еще помню, как нас впервые привели в школу родители, как мы перед началом первого в жизни урока знакомились на школьном дворе…
Я чувствую, как вздрагивает его рука в такт биению сердца, как быстро и отрывисто он дышит.
Нашу позицию с запада защищает болотистый берег Терека, С востока ее прикрывают пушки, Я знаю, что за станицей, недалеко от моста, вырыт глубокий противотанковый ров, Знаю, что где-то притаилось несколько неуловимых «катюш». Практически район почти неприступен, И все-таки неприятное чувство обнаженности не покидает меня. Уж слишком уверенно, не торопясь, идут танки, Спустившись с шоссе, они еще более замедляют ход и начинают лавировать между камнями.
Вася подтягивает к себе подсумок и вынимает из него две противотанковые гранаты. Размером они больше привычных нам РГД, напоминают широкую литровую консервную банку, насаженную на ручку. И весом они потяжелее. Цыбенко говорил, что они рвут гусеницы, как газетную бумагу, а если угадаешь под башню, то и башню можно заклинить, а то и вовсе сбить с поворотных катков.
Я прикидываю гранату в руке.
— Да ее и на двадцать-то метров не бросишь. Вон дура какая!
— Из укрытия больше и не надо, — говорит Вася и вставляет в гранаты запалы.
До танков еще с полкилометра. Такие же грязно-зеленые, как и вчера, с аляпистыми коричневыми разводами по бортам, они то появляются в поле зрения, то вдруг пропадают, сливаясь с бурыми пятнами на местности.
Я вглядываюсь в ближайший.
Вот он обогнул серый, замшелый валун, развернулся на месте, брызнул короткой пулеметной очередью по купе кустов, снова сделал поворот и, попав на открытое пространство, коротким рывком преодолел его.
Правый фланг взорвался частыми залпами ПТО, хлопками ПТР, пулеметными очередями, гулкими ударами танковых пушек. Там начался бой. Чем он кончится? Чем вообще кончится день? Кто из нас к вечеру останется живым?..
И вдруг мне вспомнились слова Цыбенко, когда однажды вечером мы все сидели в одном кружке на траве полигона после сумасшедшего дня сплошных тактических учений. «У настоящего чоловика, — говорил сержант, — должно буть усего чуть-чуть сверх. Чуть-чуть терпения сверх терпения, которое ему отпущено природой. Чуть-чуть решительности сверх решительности, чуть-чуть воли сверх воли, чуть-чуть хитрости сверх хитрости. Будет у чоловика это „чуть-чуть“ — увидит он настоящую жизнь, добьется, чего захочет…»
Я тоже вставляю запалы в свои гранаты. Пусть будут под рукой, если танки подойдут ближе.
Но танки и не думают подходить на короткую дистанцию. Сегодня у них какая-то другая тактика. Они замедляют ход и вскоре совсем останавливаются. Тот, за которым я продолжаю следить, поворачивает башню в нашу сторону. Одновременно с поворотом башни опускается хобот орудия. Ниже, ниже… Вот уже виден его черный зрачок, вот орудие остановилось. Зрачок исчезает в красном блеске. Будто солнечный зайчик выпрыгивает из него. Выстрел упруго бьет по ушам, и тотчас позади нас, точно эхо, раздается удар взрыва. Башня танка коротко взблескивает еще раз, и еще. Эге, да ведь он же лупит по пушкам, что стоят за сгоревшей вчера машиной!
На момент передо мной появляется лицо высокого артиллериста, с которым я разговаривал на рассвете. Как-то он там сейчас, у своей пушки?..
Нас окатывает землей и вонючим дымом. На секунду мы пригибаемся, потом снова поднимаем головы. Мы уже не боимся близких разрывов. Если не прикончило сразу, то все в норме: дважды в одно место снаряды не попадают, Вася, что-то бормоча, откидывает прицельную планку пулемета и рукавом гимнастерки протирает колодку прицела.
Танк стоит, повернув башню в нашу сторону. Справа к нему на подходе второй. С короткими интервалами их пушки дергаются выстрелами.
…Черт, как унизительно, как гаденько чувствовать себя мишенью…
Разрывы теперь перебегают на берег Терека, клочковатая серая мгла заволакивает обрывы Сунжи. Иногда вода подскакивает высокими белыми свечами, будто со дна реки ударяют гейзеры. С того берега в дуэль включаются еще какие-то пушки. Грохот обступает нас стеной. И танки снова начинают медленно двигаться вперед.
Они идут широким, вытянутым полумесяцем, вернее — тупым клином, вершина которого обращена в сторону Эльхотова, Сколько же их всего?.. Штук двадцать пять, не меньше… Точно не знаю. Точно вижу, что горят уже четыре…