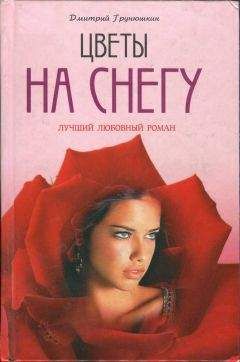Миша Мазан погиб 24 декабря 1944 года в Венгрии, взлетев с аэродрома Тапио-Серт-Мартон. Был пасмурный день и над нами многослойная облачность на много километров вверх. Нижняя кромка облаков висела метров на шестьсот и, конечно, была опасность, что самолеты противника могут пробить облачность, зайдя сверху, и нанести внезапный бомбовой удар. А здесь, как на грех, видимо, считая метеоусловия для себя удачными — было, где спрятаться от истребителей немцев, активизировалась дальняя авиация союзников, летавшая «челночным способом»: из Сицилии на цель, а потом в Полтаву, и обратно. В эту погоду «Летающие крепости», бравшие по десять тонн бомб, ходили даже в одиночку, хотя в ясную погоду шли только большими группами, образуя воздушный редут, к которому не так-то легко было подступиться истребителю, стрелки бомберов били по любой цели без разбора, не давая приблизиться. Над нашей головой все время гудели куда-то уходившие самолеты. Какому-то мудрецу из штаба дивизии звонил начальник штаба полковник Суяков, пришла в голову мысль: посмотреть, кто это там летает? Как будто это что-то могло изменить. Впрочем, что им — жалко было пилота, не им же лететь. Мазан возглавлял дежурное звено и, подождав, когда на большой высоте над нашими головами заворчали двигатели очередного небесного скитальца, сразу же поднялся в воздух в сопровождении своего ведомого, молодого летчика, крайне бестолкового, как мне помнится. До нас долго доносился звук двигателей истребителей, набиравших высоту где-то в облаках, образовавших слоеный пирог, между слоями которого с интервалом в пять минут шли на Будапешт бомбардировщики союзников. Потом мы услыхали рокот авиационных пушек: три длинных очереди и завыл подбитый мотор истребителя, стремительно летящего к земле. Через полминуты землю, километрах в четырех от нашего аэродрома, потряс сильнейший взрыв. Мы погрузились на полуторки и помчались к месту катастрофы. Удар был настолько силен, что мотор «Яка» на три метра ушел в землю, а от Миши Мазана, одного из молодых геройских пилотов, которых как будто бы какой-то грозный небесный хозяин без конца забирал в свою обитель, остались одни мелкие кусочки — обломки костей и обрывки тела наполнили полевую командирскую сумку. Ее мы и положили в гроб, который похоронили во дворе роскошного помещичьего имения графа Блажевича, где поставили памятник из черного гранита с надписью: «Здесь покоится прах советского летчика Мазана Михаила Степановича. 1919–1944».
Не знаю, какого черта потребовалось выяснять в небесах нашим штабным дуракам. Надо быть круглым идиотом, чтобы не знать главного правила, которым руководствовались стрелки стратегических бомбардировщиков союзников, да и наши тоже: всякий истребитель, который появляется в зоне досягаемости огня, немедленно сбивается без предупреждения. А Миша, по молодости, судя по всему, решил подойти к «Летающей крепости» поближе, чтобы доложить командованию все наверняка.
Мазан был не из тех ребят, о которых забывают на второй день. Сразу после войны, когда наш полк был в Одессе, мы направили представление на присвоение звания Героя Советского Союза, в том числе, и Мише Мазану, посмертно. Война закончилась, и звание Героя давать ее героям не спешили. Система просто уже не нуждалась в массовом количестве энтузиастов, готовых сложить за нее головы. Думаю, так бы и замотали эти представления в вышестоящих штабах, но произошла подвижка пластов в верхних эшелонах власти: Сталин или в чем-то заподозрил или просто для острастки, или эти люди зазнались и болтнули лишнего, но, во всяком случае, по его приказу была арестована и осуждена, в очередной раз, вся верхушка ВВС страны во главе с маршалом авиации Новиковым и начальником штаба ВВС маршалом авиации Худяковым. Как мне позже рассказывал секретарь парткома штаба ВВС, их обвинили в промедлении с захватом части японских островов, произошедшем из-за увлечения грабежом в Маньчжурии в 1945 году, задержке наградного материала и неуплате членских партийных взносов за год. Должен сказать, что подобное объяснение репрессий против нашего высшего командного состава было воспринято тогда в авиации с восторгом. Сталин безошибочно бил по слабым струнам человеческой души: не было в авиации человека, не считавшим себя достойным звания Героя Советского Союза, как и не было даже самого большого хапуги, считавшего, что он вывез из освобожденных стран достаточно трофеев, а уж постоянная уплата партийных членских взносов всем стояла поперек горла. Теперь обнаружились виновники плохого награждения и обогащения, плюс ко всему еще пытающиеся жить в партии за наш счет. Вся эта история была воспринята «соколами», как лишнее подтверждение мудрости вождя, имя которого они носили. Вождя, который все знает, все видит и вовремя опустит карающую десницу на всякую повинную голову. Хотя десять лет лагерей за неуплату членских партийных взносов — сейчас этот мотив выглядит так же нелепо, как известный анекдот о карманном воре, укравшем из кармана девушки кошелек с двадцатью копейками и комсомольским билетом, и осужденным за это на десять лет строгого режима по политической статье.
Однако отдаленным последствием этих репрессий была перетряска служебной документации в штабе ВВС. И поскольку ранее, скорее всего по независящим от начальства причинам, не давали хода наградным документам, то их срочно пустили в дело, и представленные к званию героя: Бритиков, Константинов и, посмертно, Миша Мазан были награждены.
Тем временем обстрел нашего аэродрома в Мельце продолжался. Были разбиты уже три наших самолета, и весь личный состав находился в довольно угнетенном душевном состоянии. Не веселили даже изображения на бортах самолетов, о которых командир дивизии полковник Гейба как-то спросил меня: «Что это у вас, товарищ Панов, за зверинец?». Мы настойчиво просили командование вывести наш полк из-под артиллерийского обстрела, где без толку теряли людей и технику. Но нам неизменно отвечали: стоять на месте. Особенно страдал, как и раньше, истребительный полк дивизии генерала Кости Ворончука, с которым я учился в Каче на курсах командиров звеньев, занимавший западную часть аэродрома. Можно сказать, что к концу августа боевая работа нашего полка была практически парализована. Немцы буквально засыпали снарядами наш аэродром и окрестные польские села. Батареи без конца били через реку Сан. Что только не пытались мы с ними делать! Как только начинался обстрел, поднимали в воздух пару «Яков» и, отыскав артиллерийские позиции, начинали их штурмовать. Такая тактика приносила лишь временное облегчение.
Дело немного улучшилось, когда на наш аэродром явился поляк и заявил, что на колокольне близлежащего костела сидит вражеский корректировщик с радиостанцией. Видимо, поляк хотел сохранить свой дом от разрушения. Мы выделили автоматчиков, которые с нашим контрразведчиком и своим коллегой из польских частей, сражавшихся на нашей стороне, захватили вражеского корректировщика, поляка по национальности, и сразу же его расстреляли. Временно полегчало, но затем обстрел снова усилился.
Именно в эти дни, в конце августа — начале сентября с нашего аэродрома бесследно исчез старший инженер полка Оберов, армянин по национальности. Мы ломали голову: куда же он мог деться? Может быть, прямым попаданием снаряда его разнесло в мелкие клочья? А может быть, Оберов дезертировал? Было непохоже. Может быть, Оберова украли диверсанты? Четыре дня мы ломали голову, а потом явился и сам Оберов, который, как оказалось, отсиживался в польском селе, километрах в пяти от нашего аэродрома. Никаких внятных объяснений, кроме того, что он очень испугался обстрела, Оберов дать не мог. Мы поругали его, пошутили над этим перепугом, да тем дело и кончилось. До конца войны Оберов вел себя вполне прилично. Этот факт еще раз показал нам, до чего натянуты нервы у людей, находящихся под постоянным обстрелом. Но нам не давали команду на передислокацию. Тем временем немцы предпринимали очередную попытку сбросить наших с Сандомирского плацдарма. Над нашим аэродромом без конца шастали «Ю-88», которые, очевидно, вели разведку, подготавливая большой налет. Когда наши ребята взлетали, то эти бомбардировщики спокойно уходили восвояси. Наш командир, подполковник П. Е. Смоляков, решил установить воздушное дежурство двух пар истребителей, которые, летая поочередно, на высоте до пяти тысяч метров, должны были «застукать» немецкого разведчика. Так и вышло. Старший лейтенант Гамшеев и лейтенант Ветчинин, дежурившие в тот день, были сначала наведены по радио с земли, а потом и сами увидели бомбардировщик противника. Они атаковали его с двух сторон сверху. После третьей атаки «Ю-88» загорелся и, перейдя в крутое пикирование, врезался в землю недалеко от Сандомира. На некоторое время полеты разведчиков прекратились.
Тем временем немецкие дела шли неважно. Союзники вовсю наступали, высадившись во Франции, и немцам, вопреки их хвастливым заявлениям, не удалось сбросить их в Атлантику. Союзники заняли юг Италии. Мы же теснили немцев днем и ночью, и было ясно, что германская песня в этой войне спета. Лишний раз мы убедились в этом, когда в начале сентября, во второй половине дня, над нашим аэродромом закружились три самолета противника с выпущенными шасси: «Рама» и два легких транспортных самолета, которые, летая на высоте 500 метров, явно собирались совершить посадку на нашем аэродроме, и не проявляли никаких враждебных действий в наш адрес. Однако боевой автоматизм взял верх, и в воздух под артиллерийским обстрелом противника мгновенно поднялось дежурное звено Миши Мазана. А там, где Мазан, там дело для целей не могло закончиться благополучно. Наши ребята развернулись и атаковали самолеты противника, которые не отвечали на их огонь и почему-то раскачивались с крыла на крыло, будто стремясь сообщить о чем-то. Мазан поджег «Раму», и она приземлилась недалеко от нашего аэродрома, а остальные немецкие самолеты полетели на восток, вглубь нашей территории. Мы помчались к месту приземления немецкого разведчика: двухфюзеляжного и двухмоторного самолета. Наши автоматчики приготовились к бою, но летчики из сбитой машины, которых оказалось семь человек, приветливо махали руками. Это были словаки, которым надоело воевать против нас на стороне немцев и они, работавшие в аэродромной обслуге, выбрали момент, когда немцы обедали, захватили около трех десятков самолетов, и перелетели на наши аэродромы. Мы получили телеграмму из штаба армии: к нам перелетают словаки, по ним огня не открывать. Конечно, телеграмма была, мягко говоря, запоздалой. Миша Мазан уже успел во время своей атаки пробить голень ноги словацкому офицеру. В тот день с разных немецких аэродромов словаки перегнали через линию фронта около ста немецких самолетов. Немцам уже никто не верил и не связывал с ними свою судьбу, разве что те, кому некуда было деваться. Это происшествие немцы отметили бешеным артиллерийским огнем, открытым по нашему аэродрому. Но мы старательно замаскировали и растащили по лесу свои самолеты и укрыли людей. Фонтаны разрывов немецких снарядов ковыряли поле, действуя нам на нервы, но не принося ущерба.