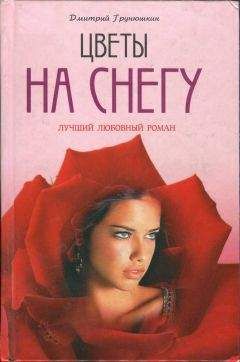Вскоре нам выдали леи, и я не без удивления обнаружил, что торговля Лугожа работает на полный ход — румыны предпочитали воевать цивилизованно. В одном их магазинов я купил пачку цветных карандашей, а в другом темно-синей, тонкой шерсти, из которой сшил лихие галифе, которым сносу не было. Они бодро мотались на моих ногах еще года два после войны. Потом я купил килограмм прекрасных шоколадных конфет с начинкой из варенья. Поел их и почувствовал себя, как в детстве. В Румынии рыночные правила сочетались с законами военного коммунизма: продавец не имел права повышать цены выше установленной указом короля. Я хотел переплатить, чтобы мне достали дефицит, но перепуганный продавец-румын жестами показал, что за такие штучки можно угодить на виселицу.
Через несколько дней мы перелетели на полевой аэродром недалеко от Лугожа, в местность, по которой протекала небольшая мутная река, белая от плавающих в ней гусей. Сначала мы с удовольствием поедали эту водоплавающую птицу, которую в разных видах подавали в летной, технической и даже солдатской столовых. Мы платили за них полновесной леей сельскому старосте — солтису, сильному крепкому мужику в длинном плотном сиряке из шерсти, обутому в постолы — голову его украшала высокая баранья шапка, какие я привык видеть на Кубани.
Гусей здесь принимали не по-кубански, на глазок, а в строгом порядке: хозяйка приносила гуся, которого резали при ней, она общипывала его, забирала пух, перья, а также голову и лапы себе. Потом определяли чистый вес.
Тем временем эпицентр боевых событий на нашем участке фронта все больше смещался к югу, в сторону Венгрии. Именно там немцы, опираясь на нежелавшую переходить на нашу сторону венгерскую армию, решили создать южный бастион, которым прикрывались Чехословакия, часть Польши, Австрия и выходы в южную Германию. Здесь, в начале знаменитой Трансильванской долины, уже столетия служащей предметом спора между венграми и румынами, нам вскоре пришлось поддерживать атаки казаков Плиева, прорывающихся в Венгрию с севера. Именно туда уходили девятками штурмовики корпуса Каманина в сопровождении наших эскадрилий. Хорошо помню бой, виденный мною с воздуха, происходивший на границе Румынии с Венгрией. Венгерская конница, примерно до одной дивизии, укрылась в огромном кукурузном квадрате площадью до двух квадратных километров. Гонведов поддерживали танки и бронетранспортеры, зарытые в землю. Казаки Плиева нажимали на них с востока при помощи нескольких десятков танков и активной поддержке артиллерии.
Исход боя решило наше участие. Сначала третья эскадрилья, в составе которой я вылетел, долго крутилась над полем боя. Командир Яша Сорокин, подлетев ко мне поближе, разводил руками, показывая вниз, где очень трудно было определить вражескую конницу. Была реальная опасность ударить по своим. Мы два раза облетели место сражения, пока не разобрались, а потом, посоветовавшись в воздухе с штурмовиками по радио, у нас была одна волна, с большого круга кинулись в атаку на венгров. Реактивные снаряды, бомбы и пушечный огонь штурмовиков и истребителей образовывали целые просеки в кукурузном поле. Мы сделали четыре захода на атаку, после чего конница не выдержала и в стремительном галопе по всем дорогам и даже просто по полям, понеслась в сторону города Бекисчаба. Это была уже Венгрия. Мы преследовали отдельные группы стремительно уносящихся всадников, и уложили их несколько десятков. Особенно отличились Миша Мазан и Яша Сорокин.
После этого боя нам предстояло попрощаться с Румынией, где мы начинали входить во вкус местной жизни. Похоже было, что нам предстоит оказаться в Венгрии, о которой наш слюнявый пропагандист майор Рассоха написал в своем пропагандистском конспекте еще более жуткие вещи. Получалось, что венгры едва ли не едят друг друга с голода.
Нам предстояло посмотреть на все эти ужасы после того, как, проведя ночь со 2 на 3 октября 1944 года на аэродроме большого и красивого румынского города Арада, стоящего на румынско-венгерской границе, на утро следующего дня перелетели на аэродром Бекисчаба. Мы были в Венгрии. Скрипки не звучали.
Но, честно говоря, я был рад, что мы оказались в Венгрии. Удивительное дело, венгры, в начале первого тысячелетия потрясшие ужасом всю Европу, даже в старой германской молитве есть слова: «Спаси меня, Господи, от венгерской стрелы», низкорослые и свирепые степняки, отнявшие у славян цветущие земли и виноградные места вокруг Дуная и не поддавшиеся, подобно болгарам, мягкому очарованию славянских женщин, сами ассимилировавшие наших сородичей, взяв в свой язык слова «кутя» — собака и название некоторых сельскохозяйственных орудий, так свирепо и решительно взялись за постижение европейской культуры, что ушли в этом смысле гораздо дальше румын, подпитывающихся двух-тысячелетней культурной традицией, еще от Древнего Рима. Глядя на венгров, отважных эмигрантов, тысячу дет назад покинувших места за Уралом, оставив вымирать от табака, венерических заболеваний и спирта своих нерешительных сородичей, которых мы сейчас называем «ханты-манси», я еще раз убеждался, что недаром мои предки пустились двести лет назад в свой путь к свободе. Дорога на юг по привольным степям заряжает человека оптимизмом и решительностью, ветер перемен учит предприимчивости.
А мои восторги по поводу жизни в Румынии несколько поутихли после следующего случая. Должен сказать, что практика показывает — удержать армию, оказавшуюся на чужой территории от разложения, задача чрезвычайной сложности. Во всяком случае, скажу откровенно — в Европе нам это не удалось. И потому возникали эксцессы, когда на тебя средь белого дня, будто кирпич с крыши падал.
В Дрогинешти мы со Смоляковым остановились в приличном доме инженера, работавшего на нефтяных полях Плоешти. Нам отвели отдельную, хорошо обставленную комнату, принимали с радостью — все-таки поселились старшие офицеры-авиаторы, а не казаки, снова утверждавшие в разных странах свою боевую, разбойничью славу. В это время у родителей — хозяев дома, гостил сын-студент, которого мы звали Сашкой. Самолюбию Сашки, неплохо разговаривавшему по-русски, очень льстили совместные выпивки с нашими офицерами. А у нас, любителей выпить надурняк, было, хоть отбавляй. В тот день я несколько пораньше вернулся с аэродрома, чтобы сочинить очередное, ежедневное, никому не нужное политдонесение — в политотделе очень ревниво следили за поступлением этих бумаг. Только я склонился над бумагой и предался мукам творчества, как на улице поднялся какой-то крик. Я выбежал на порог и увидел, что в соседнем дворе вспыхнул небольшой, арбы на четыре, стог соломы, из-под которого, как ошпаренные, выскочили порядком пьяные Сашка с одним из наших техников. Как позже выяснилось, устроившись в соломе, они выпивали и покуривали. Кто-то бросил спичку и в результате вспыхнул пожар, веселее которого я не видел с тех пор, как мой старший брат Ванька поджег старый стог нашего деда Якова, когда тот не желал убирать его с нашей земли. Я в этой ситуации был виноват, как говорят на Украине, разве что Богу душу. Тем не менее, по селу мгновенно пошел слух, что русские жгут Дрогинешти, и румыны, будучи людьми хитрыми, хотя и понимали вздорность этой информации, но почувствовав в нас, по сравнению с немцами, слабинку, решили, небезвыгодно для себя, изобразить пострадавших.
Мало ли пожаров бывает в селе. Но не успел стог догореть, а у нашего двора уже стояла разъяренная толпа румынских крестьян, вооружившихся вилами и косами, а также железными граблями, которые, судя по всему, им не терпелось пустить в ход. Люди были в страшном возбуждении: инстинкт стаи и связанное с этим чувство невозможности персональной ответственности, а также взаимная, нервная электризация, сделали этих людей способными на убийство. Да и, очевидно, кое-кто, под шумок, был бы не против отправить на тот свет пару русских, чтобы отвести душу за румынские потери в снегах России. Наша дружба была призрачной, а вражда реальной. Самым плохим, на мой взгляд, было то, что в толпе находилось немало подростков: ткнет тебя такой глупый сопляк вилами, и что потом с него спросишь? Толпа прихватила наших пьяниц-поджигателей, и если Сашка, будучи своим, принялся с ними ругаться и даже драться, то нашего пьянчугу уже собирались проткнуть сельскохозяйственным инвентарем. Я схватил этого разгильдяя, и отправил в дом, а толпа занялась мною. Мне не приходилось быть в подобной ситуации со времени, когда сотни китайцев, подбирая увесистые речные голыши, собирались побить нас камнями на речной отмели, где мы совершили вынужденную посадку, перепутав с летчиками наемниками-европейцами, воевавшими за японцев. Я вытащил пистолет и потребовал, чтобы все остановились метрах в четырех — если кто подойдет ближе, буду стрелять. Установилось неустойчивое равновесие: при помощи наведенного ствола, я удерживал на расстоянии все более иступлено орущую толпу, ощетинившуюся вилами. У меня чуть голова не закружилась от вида выпученных глаз, брызжущих слюной ртов и невообразимого истерического крика, Чувствовалось, что еще несколько секунд, и румыны сами себя поднакрутят настолько (никакие мои объяснения и оправдания не принимались), что бросятся в атаку и обязательно проткнут меня вилами. Конечно, я успел бы уложить несколько человек, но вряд ли это облегчило бы мою судьбу.